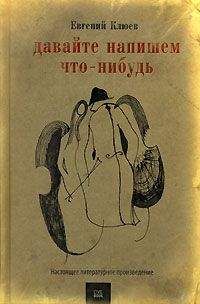Редингот ходил взад-вперед… то есть как бы и не ходил вовсе, то есть как бы оставался на месте. Марта встревоженно смотрела на него: в таком волнении она Редингота не видела никогда. Самое ужасное, что он ничего не говорил, а в ответ на все вопросы Марты повторял только:
– Ой, Марта, погодите, дайте собраться с мыслями в дорогу!
И Марта умолкала, пряча озабоченность в один из ящиков старинного шкафа – главного украшения гостиничного номера. Когда ящик перестал закрываться, она не выдержала и заглянула Рединготу в глаза – причем заглянула так глубоко, что увидела мозжечок. Ужаснувшись мозжечку, который она в этот момент вообще была не готова увидеть, Марта заплакала от отчаяния… тут-то Редингот и принялся залпом отвечать на все ранее заданные ею вопросы. Ответы он для удобства нумеровал, чтобы Марта могла следить за тем, на какой из ее вопросов он в данный момент отвечает. Самих вопросов Редингот из экономии времени не повторял.
– Первое, дорогая моя Марта. Уж от кого-кого, а от Сын Бернара я такого преступного легкомыслия никак не ожидал. Я полагался на него, как на себя, оставив его в Змбрафле, чтобы он оттуда осуществлял руководство построением Окружности! Он же бросил Змбрафль и черт знает зачем находится в Париже: я видел его сегодня утром из окна гостиницы!
Второе. Ближний тоже был послан в Змбрафль – Сын Бернару на подмогу. И что? Его я тоже видел из окна гостиницы: идет мимо Кафе де ла Пэ и пожирает багет! В Змбрафле ему, видите ли, багетов не хватает!
Третье. Самое страшное! Что Вы скажете о новом идоле Парижа по имени Galya Ili Valya? О, не отвечайте, я отвечу за Вас: она до умопомрачения напоминает Кузькину мать – только обезображенную вмешательством злого рока и косметикой. Ту самую Кузькину мать, которая тоже, казалось бы, должна была уже добрести до Змбрафля!
Каким образом они все оказались тут? Кто в Змбрафле? Под чьим наблюдением находится проект в целом?
– Почему Вы не окликнули Сын Бернара или Ближнего, когда увидели их из окна? – спросила Марта.
– Я отказывался верить глазам своим! Несмотря на то, что мое сердце-вещун настаивало: «Верь глазам своим!» – я отказывался и говорил ему: «Молчи, проклятое!» И оно замолчало.
– Так и молчит с тех пор? – Марта испуганно посмотрела Рединготу на грудь.
Редингот кивнул.
Марта приложила ухо к его груди. Сердце не билось.
– Милый Редингот, надо что-то делать: организм не может функционировать, если сердце перестает биться…
– Только не мой организм! – с гордостью сказал Редингот. – Мой организм будет функционировать даже тогда, когда девяносто девять целых и девять десятых органов выйдет из строя.
– Что же тогда в Вашем организме останется? – растерялась Марта.
– Мне достаточно, чтобы остался мозжечок, – быстро ответил Редингот. – Ибо, пока я в состоянии координировать мои движения, спички будут ложиться точно… а больше мне в жизни ничего не надо!
– Ничего? – опешила было Марта, но тут же и прикусила язык – к несчастью, так сильно, что Рединготу пришлось срочно пришивать откушенную часть хирургической иглой и специальными нитками: такие необходимые в обиходе вещи всегда имелись у него с собой в походной аптечке под названием «Турист-хирург». Когда операция была закончена, к Рединготу снова вернулось раздражение, покинувшее его на время операции и навестившее за это время бармена Кафе де ла Пэ. В течение, стало быть, часа или даже чуть более часа (именно столько продолжалась операция) раздраженный бармен Кафе де ла Пэ успел ошеломляюще много: он убил всех завсегдатаев Кафе де ла Пэ, обратился в парижскую мэрию с требованием выделить ему безвозмездно два с половиной миллиона новых до хруста франков на сооружение современного кладбища под Парижем и, получив эти деньги, действительно соорудил премилое кладбище в местечке Пти Шармань, на котором быстро и с большими почестями захоронил всех убитых им завсегдатаев. После похорон бармен вернулся в Кафе де ла Пэ, а раздражение, как выше уже было указано, – назад к Рединготу.
– Я раздражен так, – сказал тот, – что отправляюсь выслеживать Ближнего, Сын Бернара и Кузькину мать! Цель моя – поймать их на нарушении гражданского долга и заклеймить презрением. Потом я разберусь с пресловутой троицей и срочно уеду в Змбрафль. – Тут Редингот вынул из всегда имевшегося у него под рукой дорожного набора «Турист-юрист» большую круглую печать презрения, сунул ее в карман и вышел, не оглядываясь.
– Подождите меня! – едва ворочая только что прооперированным языком, вскричала Марта, которая не хотела оставлять Редингота одного в раздражении, и, найдя в его дорожном наборе маленькую треугольную печать прощения, припустилась вслед за ним. Не следовало ведь забывать, что в данный момент сердце Редингота молчало, а это значило, что у Редингота как бы не было сердца!
– Вам в этой процедуре участвовать не обязательно, – бубнил по дороге Редингот, – у Вас нервы слабые!
– Ничего, – приговаривала Марта, – справлюсь! Не впервой!
По пути она все-таки уговорила Редингота переодеться, чтобы Ближний и Сын Бернар не сразу их заметили и, чего доброго, не дали бы деру. Редингот переоделся римским гладиатором, дабы продолжать оставаться без брюк, как он уже привык (Боже, Боже, наскучит ли мне, автору настоящего художественного произведения, – наскучит ли мне когда-нибудь повторять это!), а Марта переоделась швейцарской молочницей. Посмотрев на нее, Редингот весь обзавидовался, настолько колоритно выглядела в пейзанском Марта. В конце концов он не выдержал и снова переоделся: теперь он был не римским гладиатором, а швейцарским молочником, и Марта принялась держать его в руке. Поскольку Редингот, таким образом, переоделся дважды, узнать его теперь уже было совсем невозможно.
Они застали Ближнего и Сын Бернара в открытом всем ветрам маленьком ресторанчике за постыдным занятием: те ели.
– Приятного аппетита! – зловеще сказал швейцарский молочник, обращаясь к едокам.
– Спасибо, – ответили Ближний и Сын Бернар с набитыми ртами и удивленно воззрились на говорящий предмет кухонной утвари в руках у прехорошенькой пейзанки.
– И не стыдно Вам вот так вот тут сидеть и поедать еду? – спросил швейцарский молочник, сжимая в кармане печать презрения.
Игнорируя наглый говорящий предмет кухонной утвари, простодушный Сын Бернар обратился к прехорошенькой пейзанке:
– Присоединяйтесь к нам, прехорошенькая пейзанка! У нас с собой много денег, и мы закажем Вам горячий шоколад с круассанами. Не сочтите такое предложение развязным: дело в том, что мы совсем одиноки в мире и потому занимаемся всякими глупостями – типа построения Абсолютно Правильной Окружности из спичек. Но может случиться так, что Вы полюбите кого-нибудь из нас, – тогда одним одиноким на земле будет меньше!
Редингот спрыгнул с рук Марты и выхватил из кармана печать презрения.
– Я догадывался, что в Вашем предательстве Вы зашли далеко… но чтобы так далеко!.. – И он занес печать презрения над широким лбом Сын Бернара.
При этих его словах образ автора полностью слился с личностью писателя – и писатель этот зажмурился от ужаса происходящего.
ГЛАВА 25
Некоторые из героев окончательно выходят из-под контроля автора и попадают под контроль санэпидстанции
Не нужно доказывать, что… Здесь поставлено многоточие, а зря. Потому что этот знак препинания следовало бы поставить на одно слово раньше – причем не многоточие поставить, а точку. Чтобы предложение выглядело следующим образом:
Не нужно доказывать.
Сказать так вполне достаточно – причем сказать и заткнуться навсегда. Ибо доказывать действительно не надо. Никому, никогда и ничего. И, даже если кто-то однажды холодной зимней ночью упадет перед вами на колени и, показывая пальцем на нечто еще не доказанное, примется умолять: «Докажите мне это, докажите ради всего святого!» – вам следует только пожать плечами и заметить в сторону моря: «Причем тут все святое, не понимаю…»
Такой, стало быть, совет я, твой дорогой писатель, даю тебе, мой дорогой читатель. Даю – и при этом страстно, как Ромео, клянусь: сам я никому никогда ничего не доказываю. Даже когда вчера утром, между пятью и шестью, ко мне в спальню ввалился журналист, разгоряченный, что твой утюг, и сначала прожег дыру в пододеяльнике, а потом спросил: «Чем Вы можете доказать, что все, о чем Вы пишете, правда?» – я только повернулся на другой бок и засвистел, как сурок. Данный свист можно было бы – в крайнем случае! – счесть за уклончивый ответ, но – присягаю у мавзолея В. И. Ленина! – ни в коем случае не за доказательство. Ибо и тогда, когда я лежу в постели и сплю, я продолжаю оставаться глубоко убежденным: доказывать что бы то ни было бесполезно. Нечто существует или не существует – в обоих случаях доказательства излишни. Я, конечно, мог бы попросить у Марты ее трусики в горошек и стремительно выхватить их из-под одеяла в ответ на вопрос докучливого журналиста, но посудите сами: что бы я доказал таким образом? Да ничего! Или бы такое доказал, о чем лучше и не упоминать на целомудренных страницах настоящего художественного произведения… Так что пусть либо верят, либо не верят – это дело, так сказать, интимное.