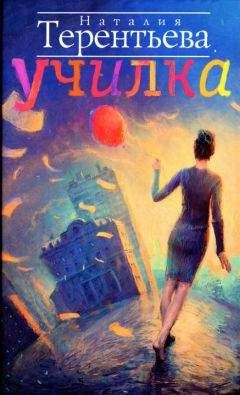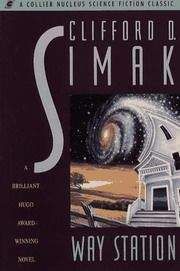— Больно?
— Да, кажется, сломана. Или просто больно…
— Осторожно, я посмотрю…
Рука была вся в крови.
— Надо промыть. И сделать рентген.
— Который час? — спросил Андрис у официантки.
Та улыбнулась, не понимая. Он переспросил по-латышски. Я тоже посмотрела на часы. Вот и пообедали.
— Ты сможешь вести машину? — спросил он меня.
— Ты собираешься на концерт?
— Да. Отменить его нельзя. Невозможно. Это главный концерт года, для нас. Юбилейный. Сегодня десять лет нашему оркестру. Приедет президент страны.
Я не успела подивиться сдержанности Андриса и тому, как просто и очень запоздало он говорит об этом. Другая реальность. Много концертов, много самых главных, много юбилеев, много столиц и президентов.
— Попробуй сжать пальцы, — сказала я. — Получается? Не больно?
— Больно. Но терпеть можно.
— А поднять руку? Помахать ладонью?
Андрис, сжав губы, двигал руками.
— Думаю, кости целы, — сказал он. — Больно, но в глазах не черно. Особенно с такой отважной медсестрой. — Он взглянул на меня и погладил тыльной стороной ладони, не испачканной в крови. И совершенно некстати по всему телу побежала радость, яркими пузырьками, как будто наполненными веселящим газом с ясным эффектом антигравитации. Ноги не чувствуют землю, идти становится легко, вокруг все светлее… Я одернула себя.
— Пойдем, Андрис, промоем раны хотя бы водой. Тут… ой, осторожно… очень сильно разорвана рука. Думаю, придется зашить. Больно?
Он посмотрел на меня повеселевшими глазами:
— Не очень. Спасибо.
Я пожала плечами:
— Да за что? Это эстонским националистам спасибо. Помогли выявить нашу сплоченность и боевой дух. Я могла еще много лет не увидеть, как ты дерешься.
Я увидела хороший и спокойный взгляд Андриса. И услышала свои собственные слова.
— Могла и не увидеть, — подтвердил он. — Но теперь ты знаешь, что я не только нравлюсь женщинам. А еще и дерусь.
— Попроси, может быть, в ресторане есть перекись водорода или йод, — ответила я.
Андрис кивнул, крикнул что-то официантам, которые стояли теперь, выстроившись в ряд. Где только они были, когда несколько минут назад громко ржали и улюлюкали эстонские парни, обступая нас?
Мы не успели дойти до крана с водой, как приехала красивая, сверкающая Ambulance — «Скорая помощь». Андрису быстро промыли все раны, оказавшиеся не очень глубокими, зашивать не пришлось, но перевязали и руку, и голову. Андрис смеялся, протестовал, подмигивал мне, когда ему бинтовали голову. Врач обратился ко мне по-латышски. Я покачала головой:
— Увы, не понимаю.
Тогда он повторил по-русски, с некоторым затруднением подбирая и склоняя слова:
— Не нужно снимать повязка. Хочет снять, говорит, сегодня будет выступать.
— Будет, будет, — подтвердил Андрис.
— Что, музыкант? — спросил врач довольно небрежно.
Андриса не знают! Он не звезда в настоящем смысле слова! Его знают местные официанты, потому что он ходит в этот ресторан с Анжеем, гостями из Москвы и белокурыми студентками Консерватории. (Интересно, она латышка? Наверняка.) Президент Латвии его знает, разумеется, и министр культуры. А вот врач Амбуленции, Скорой латышской помощи, не знает его в лицо. Не любит классическую музыку и не знает. Это неплохо. Потому что дружить со звездами неудобно и странно. Все оглядываются, шага не пройдешь без любопытных взглядов. А так — здорово. Вроде человек известный, достойный, но совершенно не интересный массовым журналам и любознательным обывателям, которые в любой стране одинаковы.
Я оглянулась, где дети. Понятно. Взрослые потом долго обсуждают такие происшествия. А дети еще и проигрывают. Никитос и Анжей показывали друг другу, как именно дрался с эстонскими неофашистами Андрис, а Настя, оживленная и совершенно не плачущая, пыталась оторвать от пола огромный деревянный стул, чтобы, очевидно, тоже показать, как этот стул бросила в парней я, спасая известного латышского музыканта, альтиста и дирижера.
Подошедший официант сказал Андрису что-то по-латышски. Тот ответил и кивнул на меня. Официант с большим трудом проговорил по-русски:
— Всё… готово. Можно-о… приносить?
— Можно, — сказала я. — Даже нужно. Народ! — позвала я детей. — Заворачивайте сюда!
— Если я так студентам скажу в Консерватории, это будет нормально? Не сленг? — улыбнулся Андрис.
— Особенно одной, с такой вот… — Я изобразила рукой взбитую шапочку кудряшек вокруг головы.
— Ого, да вы ревнивы! — засмеялся Андрис. — Если ты увидишь сегодня еще двух моих скрипачек…
— Двух? — уточнила я.
Андрис покивал, все так же смеясь.
— Да-да-да, особенно двух.
— Мне придется тебя делить на шесть, на восемь, на три?
— Тебе придется относиться философски к некоторым особенностям моей жизни.
— Я понимаю. Если мужчина известный и талантливый, но нехорош собой, его мало кто будет обнимать, целовать после концертов, спектаклей. Нет, найдутся оригиналки, конечно. Но если человек слишком красивый…
— Ну так вышло, я не виноват, — улыбнулся Андрис. — И мама не виновата…
— Да, конечно, игра генов.
— Вот Анжей, видишь, тоже какой хорошенький, но он пока об этом не знает.
— Узнает, очень скоро, — ответила я, отметив про себя, как Настя, вся зардевшаяся, сидит на том самом стуле, который она так и не сумела оторвать от пола, и слушает веселые разглагольствования мальчиков. — И пепельные, и брюнетки, и нежные голубоглазые блондинки, почти родственницы — все ему расскажут, какой он красавчик…
— Аня. — Андрис взял меня за запястье перевязанной рукой. — Орлова, та девушка, моя ученица, и правда в меня влюблена, ты все правильно поняла. А тогда, в день концерта, она получила первую премию на конкурсе в Италии, только что прилетела, и сразу ко мне. Потому что ее премия — и моя тоже.
Я посмотрела на Андриса. Я пока не уверена, хочу ли попадать в такую зависимость. Или я в нее уже попала? И бесполезно хотеть или не хотеть?
— Я должен что-то еще сказать? Что-то пообещать?
— Нет, — покачала я головой. — Не знаю.
— Знаешь, я когда-то сказал себе, лет… восемь назад. Я женюсь, если еще когда-то женюсь, только на той женщине, с которой мне будет гораздо лучше, чем без нее.
— Жестко. И хорошо сформулировано. О, смотри, сколько всего несут… Разве мы столько заказывали?
— Вопрос в том, съедим ли мы это.
— Комплимент от ресторана! — К нам подошел повар, явно живший еще при ненавистной многим в Латвии (и не только) советской власти. — Дорогому Андрису — самые лучшие блюда.
Молодые официанты придвинули нам еще один стол, потому что самые лучшие блюда не поместились на одном столике.
— Но у нас всего полчаса, — тихо сказал мне Андрис. — Чтобы поесть, я имею в виду. На все остальное у нас еще будет время. Да, Аня?
— Да, Андрис.
Андрис поцеловал меня в висок, задев свою пораненную голову. А я прислушалась к себе. Где вы, пузырьки радости? Вот — от места нежного поцелуя — разливаются по телу, бегут, как положено, отключают гравитацию, я приподнимаюсь над тяжелым деревянным стулом, не чувствую под собой подлокотников и сиденья, вижу только эти смеющиеся глаза и чувствую, бесконечно, его поцелуй у себя на виске.
— Мам! Я буду всё! — проорал Никитос. — Анжей! Ты всё будешь? Я ужасно голодный!
— Постарайся не испачкаться! — попросила я его.
— Все равно заходить домой, переодеваться, — заметил Андрис. — Пусть едят с удовольствием.
— Очень мужской совет, — засмеялась я.
— Я опытный отец, ты не думай. Анжей со мной часто ездит, чаще ездит, чем не ездит. Я стараюсь все свободное время проводить с ним. Да, Анжей?
— Да, пап, — кивнул мальчик, с сомнением оглядывая огромный кусок мяса на своей тарелке. — Это все мне?
— Если тебе много, я съем! — авторитетно заявил Никитос. — Насть, не подавись!
В этой тройке Никитос явно без проблем занял лидирующее место, несмотря на то, что он гораздо младше Анжея.
— У тебя есть красивое темно-голубое платье, длинное. Ты можешь его надеть? — спросил Андрис.
— Могу, — кивнула я. — Могу.
— Все хорошо? — Андрис посмотрел на меня. — Невкусно?
— Вкусно. Просто… Я не знаю, как всё будет.
— Аня… — Он отложил приборы. — М-м-м… как рука всё-таки болит…
— Ты сможешь дирижировать?
— Смогу. Аня, — он сжал мои пальцы, — мне с тобой лучше, чем без тебя. Остальное решать тебе.
Сказать ему про эффект антигравитации, возникающий от его прикосновений?
— Это нужно решать прямо сейчас?
— Нет, сейчас нужно доедать и спешить на концерт. Ты хорошо водишь машину?
— Средне.
— Тогда вызовем такси. Я не поведу.
— Никитос, — позвала я сына, который махал обеими руками. В одной из них, ни в чем себе не отказывая, Никитос держал большой кусок черного хлеба, в другой — большую куриную ножку, которую он только что обменял у Насти на свою «маленькую». — Успокойся! Иначе ты будешь единственным, кто не попадет сегодня на концерт.