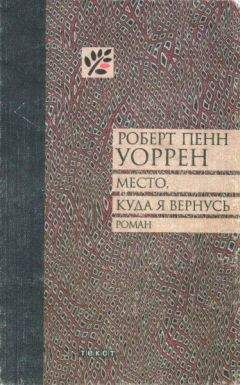Мы выпили кока-колы у стойки в аптечном магазине в двух кварталах от его мастерской. Мы пожали друг другу руки на прощанье, я съел в закусочной бутерброд и пешком дошел до аэропорта как раз вовремя, чтобы успеть на самолет до Миннеаполиса.
Я смотрел сверху на город, названный в честь отчаянного бригадного генерала федеральных войск, которого индейцы сиу в конце концов заманили в ловушку, и представлял себе крошку Агнес, которая вечно сидит на коленях у отца и не по возрасту бойко читает по слогам, осененная его вечной благословляющей улыбкой.
Пусть я и не собирался сюда возвращаться, однако мне здесь все же было отведено место, и приглашение все эти годы оставалось в силе. Но я знал, что теперь оно, хоть тогда и было высказано от души, каким-то таинственным образом стало недействительным.
В том зачарованном мирке, что окружал крошку, которая никогда не станет взрослой, места для меня не было.
Это было всего лишь совпадение, но как назвать совпадение, которое как будто доказывает, что все происходящее подчиняется неумолимой внутренней логике и предопределено судьбой? Как я уже говорил, свое первое эссе — «Данте и метафизика смерти», маленькое исследование, положившее начало моей карьере, я писал в состоянии почти гипнотического транса в то время, как умирала бедняжка Агнес, и, когда оно неожиданно получило признание, мне стало казаться, что этим я, в сущности, обрек ее на смерть. Мне стало казаться, что однажды в безлунную ночь на какой-то пустоши, где высились в темноте похожие на скелеты белые скалы, я заключил сделку с Владыкой Этого Мира, и он, будучи истинным джентльменом, скрупулезно выполнил обязательства, которые на себя взял, — выполнил, как я считал, полностью и до конца.
Но теперь, через двадцать пять лет после смерти Агнес, после того, как я, повинуясь какому-то таинственному побуждению, побывал в прериях Южной Дакоты, где давным-давно прощался с тем, что осталось от ее настрадавшегося тела, и вернулся на свой чердак, меня ждало там письмо весьма внушительного вида на элегантном официальном бланке «Universita di Roma, Facolta di lettere e Filosofia» — литературно-философского факультета Римского университета. Оно начиналось так: «Illustre Professore, Il ministero della Publica Istruzioni ci ha communicato il suo gradimento che…», — и, чтобы не пересказывать все любезности и околичности, это была еще одна почетная докторская степень, и на меня нахлынули воспоминания о тех годах молодости, когда я ходил там по древним камням одинокий, никому не известный, полный робкого любопытства и в крайне непрезентабельной военной форме, — задолго до того, как увидел Агнес Андресен и написал то эссе о Данте и метафизике смерти. Казалось, некие силы, все эти годы руководившие моими странствиями, напомнили Владыке Этого Мира, что одно его обязательство еще осталось невыполненным, и он, будучи истинным джентльменом, подкинул мне в почтовый ящик соответствующий документ.
Старая боль пронзила меня с новой силой. Я хотел порвать письмо, но тут мне пришло в голову: «Ведь сделка есть сделка, верно? И то, что требовалось от меня, я исполнил, разве нет?»
Церемония должна была состояться только в начале июня 1976 года, но, когда я разглядывал этот роскошный документ, у меня сразу же шевельнулось желание снова побывать в Италии, и причина его была куда глубже, чем простое тщеславие. Поэтому я взял отпуск на весенний семестр. Повод для этого был прекрасный: мне надо было проверить кое-что по источникам в библиотеке Британского музея, а после этого я мог провести некоторое время в Италии, чтобы дать возможность Владыке Этого Мира выполнить свое последнее обязательство.
Давным-давно, живя в горах среди моих головорезов, я узнал одну важную истину — с одиночеством можно бороться. Так что весенним утром 1976 года я выехал из Рима через древние Флавиевы ворота за рулем «харлея-девидсона», прошедшего через пять или шесть рук (и, вероятно, первоначально украденного из гаража какой-нибудь американской воинской части), в берете, защитных очках и с костюмом в рюкзаке на случай, если понадобится выглядеть прилично.
Можно сказать, что мое путешествие началось еще до того, как я выехал из Рима; по счастливому стечению обстоятельств мне попалась на глаза заметка в газете, где говорилось, что знаменитый карикатурист «Карло» — в действительности Джакомо Антонио Рьети, в свое время воевавший в партизанах. Джакомо — именно так звали того головореза, который расписал забористыми смешными рисунками побеленные стены нашего подземного убежища, превратив его в нечто среднее между Сикстинской капеллой и борделем в самый разгар субботней оргии. Я написал этому «Карло», что робкий американский «capitano» хотел бы встретиться с ним, чтобы поболтать о прежних временах. Он не только пригласил меня в Милан, где теперь жил, но и сообщил имена других наших старых товарищей, принадлежавших теперь к самым разным слоям общества. Среди них был и механик-коммунист, продавший мне мотоцикл, на котором я вскоре несся среди холмов Сиены — округлых холмов в пустынном желтом или желто-сером мире, пустота которого, как и пустота жизни, лучше всего передана на замечательной фреске Симоне Мартини в сиенском Palazzo Publico.
Я отправлюсь прямо туда, в Palazzo, встану в дверях и буду разглядывать рыцаря в узорном плаще, который скачет по опустошенному миру с изображенными на заднем плане игрушечными укрепленными городами — по миру, где, по-видимому, нет ни живой души. Этот рыцарь, скачущий по опустошенному миру, — единственный признак и источник жизни в этом мире, и я вспомнил, как давным-давно, когда война, моя маленькая война, с грохотом катилась на север, я, стоя в Сиене перед этой фреской, увидел пустой мир — и только рыцарь на фреске скакал куда-то, чтобы выполнить свою неведомую миссию. Покрытый пылью зритель, который будет глазеть на него в величественном зале дворца, не имеет никакой миссии. И так будет, пока он не вспомнит, что вскоре вновь встретится со своими головорезами — своими единственными друзьями.
И вот теперь — сколько лет спустя! — я, направляясь в Сиену, мчался мимо холмов, испещренных в это краткое время года зеленью дрока, — единственного растения, способного выжить на их склонах, и золотом его цветов. После долгих месяцев унылого зимнего бесплодия и перед палящим бесплодием лета эта зелено-золотая вспышка казалась свидетельством того, что усилия, затрачиваемые в борьбе за жизнь, не всегда остаются напрасными.
Кроме посещения рыцаря, мне предстоял в Сиене еще один визит — к старому товарищу по оружию (тоже благодаря «Карло»). Я сравнительно легко разыскал элегантное, не без претензий, здание явно процветающей фирмы по производству оптики — всяческих микроскопов, биноклей и очков. Ее сотрудники, все в форменных белых халатах, сочли мое желание встретиться с «il Dottore» достойным лишь презрения — до тех пор, пока ему не передали мою записку.
После этого «il Dottore» принял меня. Он разглядывал меня своими водянистыми глазами чуть навыкате, как у рыбы (за тридцать лет я забыл, какие у него глаза), — которые могли служить лучшей рекламой его фирмы, поскольку каждый из них плавал в собственном громадном аквариуме своей половины очков, — ничуть не любезнее, чем его подчиненные в белых халатах, но в конце концов согласился после рабочего дня выпить со мной. Часа два я, прихлебывая виски, сидел на террасе кафе и наслаждался видом башни на другой стороне площади Кампо, сочетающей в себе грациозность лилии на высоком стебле с неким математическим ожесточением строителя.
Ровно в 6.00 явился «il Dottore» с таким видом, будто собирался проверить мое зрение. Но вместо этого он долго разглядывал мои вельветовые штаны, красную рубашку, ботинки и берет и, судя по всему, решил, что я хочу не проверить зрение, а попросить взаймы. Чтобы разуверить его, а заодно удовлетворить собственное тщеславие, я предъявил ему несколько вырезок из римских газет. Он с явным облегчением пробормотал какие-то вежливые слова, но облегчение оказалось лишь кратковременным: я сразу взял быка за рога, напомнив о нашем партизанском прошлом, потому что кафе понемногу заполняла хорошо одетая публика отнюдь не партизанского вида. Его даже бросило в пот, когда я сказал, что разыскиваю товарищей по оружию, потому что то время было для меня очень важным и я хотел бы вновь испытать тогдашние ощущения, почувствовать его дух.
— Обо всей этой романтике молодости пора бы забыть, — выдавил он из себя, и я явственно увидел, как стекла его очков-аквариумов быстро зарастают густой, полупрозрачной зеленоватой слизью водорослей. Из чистого садизма я принялся напоминать ему о наших былых подвигах — в больших подробностях и очень громко. Он вертелся на стуле, как гость с полным мочевым пузырем на панихиде, так что в конце концов я сунул под блюдечко деньги и поблагодарил его за встречу. Он поспешно встал и протянул мне руку, пробормотав: «Grazie, grazie mille».