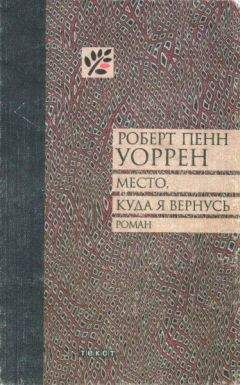Но только я собрался сказать себе: «Нет, что прошло, то прошло», — как почувствовал давнюю стигму на правом бедре и понял, что позвоню, что игра окончена и я проиграл.
Игра была действительно окончена, потому что в этот самый момент я услышал непосредственно позади себя голос с деланным южным выговором:
— Господи Боже, да никак это старый Бродяга собственной персоной!
Я обернулся. Она стояла передо мной точно такая, как говорил портье, — «bella» и «chic», и не только, — в самом простом льняном платье без рукавов, легком аквамариновом шелковом платочке на шее и широкополой соломенной шляпке. Протянув ко мне руки, она сказала:
— Ну иди, поцелуй меня!
— Я весь грязный, — ответил я. — Сегодня утром я ехал сюда от самой горы Амиата на старом армейском «харлее» и теперь грязный до безобразия.
— Вижу, что ты грязный, — сказала она, — и к тому же вредный, но я все равно расцелую тебя вместе со всей твоей вредностью, потому что ужасно рада видеть дорогого старину Кривоноса в забрызганном грязью берете и с очками на лбу.
Она прижала меня, как есть грязного, к груди и расцеловала в обе щеки, а потом, еще крепче, — в губы.
— Вкусно, — сказала она, отстранившись, чтобы получше меня рассмотреть, но все еще держа за плечи, — но только вот — ты когда-нибудь бреешься?
И она потерла свой подбородок.
— Случается иногда.
— Мне наплевать, брился ты или нет за эти последние четверть века…
— Да нет, столько еще не прошло, — возразил я.
— …Но у меня есть план на ближайшие несколько часов. Для начала — тут рядом есть замечательный ресторан, он называется «Раньери», и, если ты будешь прилично выглядеть, тебя туда пустят. Побрейся, надень галстук, какой-нибудь пиджак и вылей на себя литр одеколона — тогда и я пойду с тобой.
Я оглядел свои покрытые грязью вельветовые штаны, пропотевшую кожаную куртку, красную рубашку, ботинки.
— Иди и скорее приведи себя в порядок, — распорядилась она. — Иначе я приду тебе помогать! И тогда, видит Бог, до обеда дело так и не дойдет. И давай поторапливайся!
Я схватил лежавший на полу рюкзак и кинулся к лифту, крикнув через плечо портье, чтобы тот отнес почту в номер.
— Не смей читать ни единой строчки! — крикнула она вслед, когда лифт уже начал подниматься.
Когда я снова спустился вниз, она сидела, скрестив очень обнаженные, очень загорелые и по-прежнему прекрасные ноги, и с большого пальца той ступни, что оказалась вверху, свисала, держась на одной лишь тоненькой тесемке, голубая сандалия, которая покачивалась в такт биению сердца, и ногти на ноге были аквамаринового цвета, в тон с платком у нее на шее, — такого же цвета, как в тот давний вечер в каррингтоновской конюшне, у каррингтоновского камина, когда я смотрел, как отсветы пламени играют на той же самой, тогда еще не такой загорелой, но округлой ступне, с которой точно так же свисала, покачиваясь, сандалия. Это был тот вечер, когда я сказал, что Дагтон — это скала, частью которой мы с ней оба остались.
Но с тех пор прошло, как она сказала, почти четверть века, и мы были в Риме, намного дальше от Дагтона, чем даже Нашвилл. Или не дальше?
— Слава Богу, — сказала она, вскочив на ноги. — Я до смерти голодна. — Она подошла ко мне. — И до смерти хочу тебя еще раз поцеловать.
Сделав это, она взяла меня под руку и повела в обещанный ресторан, нарочито скромный и благопристойный на вид, где была встречена с самым почтительным радушием.
— Дело в том, — пояснила она, когда мы уселись и ждали аперитивов, — что я им здесь пришлась по душе.
Я что-то буркнул в ответ.
— По многим причинам, — продолжала она, — и одна из них — нет, конечно, не главная — в том, что я им просто пришлась по душе.
И она обвела взглядом зал, улыбаясь все той же благосклонной улыбкой королевы красоты дагтонской школы, и я заметил, что эту улыбку отнесли на собственный счет по меньшей мере несколько официантов и один посыльный, как ее принимали на собственный счет все до единого ученики дагтонской школы, за исключением, разумеется, вашего покорного слуги.
Улыбка была та же, но лицо — другое. Красивое, да, но более жесткой, скульптурной красотой, и от этого, а также благодаря густому загару, на нем еще больше, чем когда-либо, выделялись ее аметистовые глаза. Я невольно принялся разглядывать все остальное, что можно было видеть над столом, — чуть сильнее выступающие ключицы, гладкую шею с едва намечающимися поперечными складочками, руки, то оживленно жестикулирующие, то вдруг замирающие в неподвижности, выпуклые вены на их тыльной стороне, голубизну которых отчасти смягчал загар, но смело оттеняли большие кольца с бирюзой на обеих руках. Я пытался представить себе, как могут выглядеть те невидимые части ее тела, что находятся под столом, как эта обтесанная временем скульптурность придает особую остроту наслаждению их женственной мягкостью, какого невозможно было бы испытать ни с какой юной красавицей, и даже с Розеллой в лучшую ее пору.
— Я еще держусь в форме, правда? — спросила Розелла, прочитав мои мысли и взглянув в висевшее сбоку от нее зеркало, где могла видеть себя в профиль с головы до ног.
— Это точно, — ответил я.
— Я без лифчика, и могу спорить, что ты этого не заметил.
Я отрицательно покачал головой.
— Знаешь, я каждое утро ложусь на спину, беру в руки по пятифунтовой гире и по пятьдесят раз закидываю их через голову назад, до самого пола. Тебе-то, судя по твоему виду, — добавила она, окинув меня взглядом, — об этом и подумать страшно.
Я кивнул.
— А я почти ни о чем больше не думаю. Каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя: если бы я была мужчиной, который не влюблен в меня, а просто случайно оказался рядом, — какие недостатки я могла бы в себе заметить? Это называется интеллектуальная честность. Понимаешь, чем меньше остается времени, тем больше приходится налегать на интеллектуальную честность, — добавила она поучительным тоном.
— Это-то я прекрасно знаю, — вставил я.
— И что ты по этому поводу предпринимаешь?
— Абсолютно ничего, — ответил я и внезапно почувствовал себя счастливым, словно кокаинист после долгожданной понюшки. — То есть я работаю, а когда я работаю, мне не надо проявлять интеллектуальную честность. Не надо задумываться о том, в чем смысл моей работы, лишь бы она была грамотно выполнена.
— Я читала заметку в «Мессаджеро» про ту почетную степень или как там это называется, которую собираются тебе присвоить за то, что ты так стараешься не проявлять интеллектуальной честности.
Принесли вино, и мы стали его пробовать.
— Возвращаясь к теме, должен отметить: это только половина правды, — добавил я. — У меня достаточно интеллектуальной честности, чтобы признать два факта.
— Хорошее «феттучино», — заметила она. — Ну, выкладывай — что за факты?
— Факт номер один: главное предназначение работы состоит в том, чтобы убить время. Время с большой буквы.
Высказав это, я почувствовал, что очень голоден, и принялся жадно есть. Потом, запив вином гору спагетти, продолжал:
— Теперь факт номер два.
— Давай.
— Факт номер два состоит в следующем: я никогда не имел ни малейшего представления о том, что такое счастье. То, что я всю жизнь принимал за счастье, — это всего лишь возбуждение. То от одного, то от другого.
Она изящным движением приложила к губам салфетку и осторожно подняла свой наполовину полный бокал, как будто для того, чтобы оценить игру света в вине. Потом заговорила — бесстрастным полушепотом, словно обращаясь к бокалу, или, точнее говоря, словно какой-нибудь медиум или оракул, вглядывающийся в хрустальный шар, который светится рубиновым светом:
— Так вот почему ты стоял посреди комнаты и смотрел на голую женщину на кровати, которая рыдала в подушку, потому что верила в счастье, а потом просто вышел и закрыл за собой дверь?
— Послушай, — сказал я, — на том этапе своей жизни я еще не делал никаких общих выводов насчет счастья или насчет самого себя. Я просто знал то, что знал, — что не могу удрать в Европу и жить там, не имея никакого занятия, на твои деньги. Или, точнее, на деньги Батлера.
— Другими словами, — сказала она, все еще вглядываясь в рубиновое сияние в бокале, — тебе не хватало веры в меня. То есть я была просто чем-то таким, от чего ты в очередной раз приходил в возбуждение?
Она поставила бокал, наклонилась вперед и сказала:
— Знаешь что, дорогой старина Кривонос? Ты даже не пытался увидеть, какая я на самом деле. Ты даже не пытался помочь мне понять, какой я хочу быть.
Я хотел что-то сказать, но сказать мне было нечего.
— Вот видишь! — сказала она злорадно. — Тебе на это нечего ответить. Может быть, ты даже считал, что Лоуфорд прав, что мне нужно только одно — респектабельность и положение в обществе. Что это все от Дагтона.