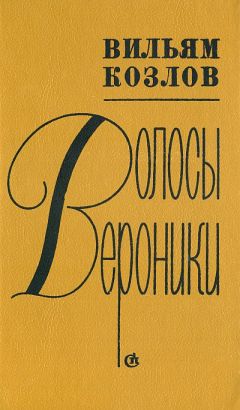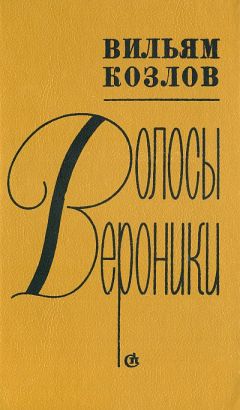— Гейгер поселился в приемной Гоголевой, — презрительно усмехнулась Грымзина. — Теперь будет бить поклоны и замаливать свои грехи… На каждом заявлении против Ольги Вадимовны стоит его подпись.
— Ваша тоже, — ввернул я.
— Я своего отношения к Гоголевой никогда не скрывала. Но в этой институтской борьбе…
— Мышиной возне, — вставил я.
— Ольга Вадимовна показала себя с самой лучшей стороны, — невозмутимо продолжала Грымзина. — Я очень рада, что ошибалась в ней… — она присела на диван, выставив из-под юбки могучие колени, обтянутые грубошерстными чулками, несколько раз жадно затянулась и, выпустив дым, затолкала окурок в спичечный коробок, который держала в руке. — По правде говоря, Артур Германович сбил меня с толку… Чего, спрашивается, мне делить было с ней? Она — большой ученый, а я всего-навсего переводчица…
— Пожалуй, даже больше профсоюзный деятель, — невозмутимо заметил я.
Грымзина так и подпрыгнула на диване. Жидкая прядь светлых волос спустилась на толстую бровь, серые глаза с беспокойством уставились на меня.
— Что я опять напортачила? — совсем другим голосом сказала она. — Если хотите, на следующем отчетно-выборном собрании я сама отведу свою кандидатуру.
«Вряд ли тебя в следующий раз выберут в местком, голубушка!» — подумал я, а вслух сказал:
— Лиши вас общественной работы, вы места себе не найдете!
— Пятнадцать лет в общественницах, — расчувствовалась она. — Я ведь знаю, кто чем дышит в нашем институте… У каждого дома побывала с комиссиями, сколько квартир людям выхлопотала! Путевок! Курсовок! Единовременных пособий… — она вдруг как-то странно посмотрела на меня. — Георгий Иванович, а ведь вы ни разу не обращались в местком за помощью?
— Как-то в голову не приходило, — пожал я плечами.
Мне действительно не было нужды обращаться за какой-то помощью. Квартирные дела у меня в порядке, путевок я не просил, денег тем более, а вот взносы платил исправно.
— Пора и передохнуть, — все в том же размягченном тоне продолжала Грымзина. — Пусть другие потрудятся на благо общества, думают, это так-то просто…
— Я не против общественной работы, но…
— Встану и заявлю самоотвод, — торжественно пообещала Грымзина. — Пусть другие попрыгают! Профсоюзная работа — это ого-го! Тут нужно волчком вертеться и вертеться, а каждому угодить ой-ой-ой как трудно, Георгий Иванович!
— А нужно ли угождать? — сказал я.
— Сразу видно, не были вы на общественной работе. Да, если не найдешь общего языка с полезными людьми, то ничего не добьешься! Институтов в городе много, а дефицитных путевок мало. А квартирные дела? А ясли, детсад? И кулаками стучишь, и кланяешься, и другой раз даже слезу пустишь…
— Трудно вам, — сказал я.
Она бросила на меня подозрительный взгляд — не подтруниваю ли я над ней? — и продолжала:
— Вот вы сколько лет знаете Уткину? Шесть? А были у нее хотя бы раз дома?
— Не приглашала, — сказал я, не догадываясь, куда она клонит.
— Альбина Аркадьевна на юга ездит, об Америке мечтает, вон в кино, говорит, снимается, а живет в коммунальной квартире, и никому до нее нет дела. Через дверь сосед — пьяница. Ночами устраивает скандалы, песни орет…
Этого я не знал.
— С одним чемоданчиком ушла от мужа к старушке матери, два года назад похоронила ее… Мы тут на похороны выделили ей кое-что — отказалась. Гордая, независимая.
— Что же вы не выхлопотали ей однокомнатную квартиру? — упрекнул я.
— Думаете, так просто! — всплеснула толстыми руками Грымзина. — У нее комната как спортивный зал — тридцать семь метров! На такую площадь еще двоих можно прописать.
— Так ей и жить там до скончания века?
— Вот вы меня ругали, что на месте не бываю, а я пороги обивала в горсовете… Обещали Уткиной из наших фондов выделить в ноябре однокомнатную квартиру. В Гавани. Район очень хороший.
— Пожалуй, не стоит вам уходить с профсоюзной работы, — сказал я.
— Квартиру Уткиной я из горла вырву, — твердо заявила Коняга.
И я поверил, что вырвет, она такая. Сегодня я узнал Конягу и с другой стороны: мне казалось, она недолюбливает Альбину Аркадьевну, а вот на тебе, квартиру ей энергично выбивала.
— Мы еще погуляем на ее новоселье, — улыбнулась Грымзина. — А потом на очереди Соболева. Она надумала пятого рожать… Надо им теперь минимум четырехкомнатную.
Признаться, я не знал, в каких условиях живет и Соболева. Не любил я в гости к своим сотрудницам ходить… А надо было бы!
Грымзина ушла, а мне тут же позвонила Вероника. Высоким птичьим голосом — почему-то по телефону ее голос изменялся до неузнаваемости — она сообщила, что Оксану мать забрала на дачу, в Публичке ей осточертело, ум за разум заходит, в общем пора нам с ней как следует встряхнуться…
— Что же ты предлагаешь? — улыбаясь, спросил я. Мне приятно было слышать ее веселое щебетанье.
— Закатимся в ресторан, а? Я хочу шампанского и апельсинов!
Мы договорились сразу после работы встретиться у Думы и пойти в «Европейскую», а если там все оккупировали иностранные туристы, то в «Садко».
Я повесил трубку, на лице моем еще бродила счастливая улыбка, я всегда радовался неожиданным звонкам Вероники, правда звонила она мне на службу редко, а в институте еще ни разу не была. Честно говоря, в рестораны ходить я не любил. Отвращение к ресторанам началось у меня с того времени, когда появились электроинструменты и усилители. Пронзительная оглушающая музыка выводила из себя: ни поесть, ни поговорить, сидишь как дурак и хлопаешь глазами, глядя на длинноволосых в потертых джинсах юнцов, с улыбкой извлекающих из своих блестящих, опутанных проводами инструментов ошеломляющие звуки, которые не каждое человеческое ухо способно выдержать. Мое, например, не выдерживало. Я не мог дождаться официанта, чтобы поскорее рассчитаться и задать стрекача из этого бедлама! Ей-богу, рев реактивного лайнера в аэропорту был комариным писком по сравнению с музыкальным квинтетом в ресторане. Я поражался, как сами-то музыканты выдерживают этот адский шум? В отличие от меня они ведь не могут убежать? Официантам, тем легче, они прячутся в коридорах ресторана, укрываются в буфете, на кухне, лишь бы не быть в зале. Поэтому, чтобы рассчитаться или заказать что-либо, нужно было отправляться на поиски официантов.
Зато какое наступало блаженство, когда юноши клали свои инструменты-сирены на стулья и уходили со сцены. Вот в этот короткий период только и можно было почувствовать, что ты действительно в ресторане, а не в камере, где испытывают твою способность выдерживать децибелы.
Я уже давно заметил, что все мои знакомые предпочитают теперь собираться отметить любое знаменательное событие не в ресторане, а у кого-нибудь дома. Там тоже музыки хватало — у всех теперь стереомагнитофоны и проигрыватели, — но по желанию большинства музыку всегда можно было выключить. Или хотя бы убавить громкость. Любитель повеселиться Боба Быков говорил, что нужно быть полным идиотом, чтобы за один и тот же коньяк платить в ресторане двойную или даже тройную цену. Пусть в ресторанах развлекаются командировочные!..
В кабинет впорхнула Альбина Аркадьевна.
— Георгий Иванович, я закончила статью японского ученого о приручении гринд и бутылконосых дельфинов, — пропела она. — Он утверждает, что гринды могут доставать с морского дна чуть ли не древние амфоры! — Сморщив маленький курносый нос, она сочувственно посмотрела на меня. — Грымзина накурила… Вы знаете, что она курит? «Приму» и «Беломор»!
Достала из изящной сумочки пачку «Кента», черную с японской картинкой зажигалку и с удовольствием закурила. Табличку «У нас не курят» она в упор не видела. Выглядела она хорошо, поездка в Японию явно пошла ей на пользу, но вот эти лайковые брюки… Я не мог избавиться от ощущения, что она до пояса обнажена. Брюки были заправлены в красные сапожки с позолоченными застежками. Наверное, чтобы мне все как следует продемонстрировать, Уткина села напротив, на диван, на котором только что сидела Грымзина, и перекинула ногу на ногу. Брюки негромко зашуршали, скрипнули. Как ни была Альбина Аркадьевна ослепительна, я не мог не заметить, что время потихоньку накладывает свою безжалостную лапу на ее холеное белое лицо. У глаз сквозь косметику проглядывали тоненькие лучики морщинок, шея под подбородком — самое уязвимое место у женщин, да, пожалуй, и у мужчин, — тоже выдавала возраст. Стоило Уткиной повернуть голову, и на шее собирались маленькие рыхлые складки. Она, по-видимому, знала об этом и старалась голову держать прямо и немного вверх. Боба Быков называл эти складки лишней кожей и говорил, что пожилые женщины делают пластические операции на лице, чтобы избавиться от лишней кожи, и уверял, что после этого лицо помолодевшей лет на пять женщины становится глупым, потому что на нем уже ничего не отражается. Не лицо, а эластичная маска.