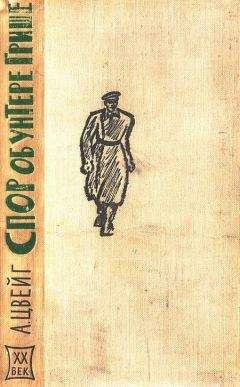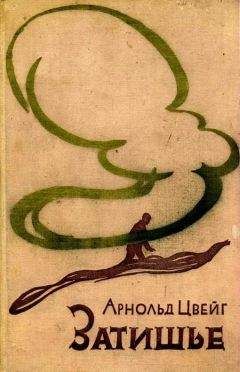Гриша вовсе не устал, нет. Бодро и ясно, при полном сознании, он вглядывался в темное пространство, откуда — стоило только закрыть глаза — напирали мысли. И в церковном подземелье — тоже могила, может быть, со светом, с едой и питьем. А потом трудная поездка с переодеванием, быть может, погоня. Затем скрываться в Вильно, в каком-нибудь погребе, вдали от дневного света и людей. А стоит кому-нибудь донести на него — и тот получит денежную награду.
Совсем другое дело — тихая могила, прекрасный гроб, им самим обтесанный, пригнанный по мерке. Там он не будет страдать от голода — в этом уже не будет нужды, — и покой, бесконечный покой.
Он уже не сомневается, на чем остановит свой выбор. Он не думает даже о глупой затее этой простушки Бабки — ведь солдаты в караульной будут сразу же сменены, как только кто-нибудь из них почувствует себя плохо, как только хотя бы у одного начнется головокружение или позыв к тошноте. Разве нет им смены? Разве на соломенных тюфяках не лежат солдаты одиннадцати отделений, которые, как ни проклинают они службу, тотчас же приступят к несению караула? А часовой у ворот, разве он не станет стрелять? Пусть он даже промахнется и не попадет в Гришу — тревогу он все равно поднимет.
Эх, опять бабьи бредни: хорошо задумано, все наперед рассчитано, да толку мало; вот он, Гриша, лежит здесь, впереди у него еще одна только, правда, жестокая передряга, завтра утром или днем. Но пока ему очень хорошо и спокойно. Дурак он, что ли, кидаться на авось — ведь это может и плохо кончиться — в эту кутерьму? А его честно прикопленные денежки? Они достанутся фельдфебелю, ведь он не оставил никакого распоряжения. Ах, блаженно думал он, хорошо только то, что никакая сила не гонит тебя больше в спину. А жизнь… Довольно он хватил мук и горя!
Если заставить человека постоянно жить с холодными, мокрыми ногами — разве он не предпочтет всем этим мучениям легкую или пусть даже трудную смерть, если к тому же ему не придется самому хлопотать, самому решать, прыгнуть ли в реку или порешить себя другим способом.
А ведь ему, Грише, если он последует совету Бабки, предстоит встретить в десять раз больше мук, чем если бы пришлось прожить три месяца с мокрыми ногами. Видит бог, не хочет он опять в снег, в темноту, в холод, не хочет больше погони, не хочет прятаться и бояться поимки, а в случае неудачи — свалиться, как горемычный заяц, с пулей в спине. Пусть все идет своим чередом, пусть ничто не нарушает его покоя до завтрашнего утра.
Он, конечно, не так глуп, чтобы говорить обо всем этом с бедной Бабкой. Достаточно будет немного погодя вылить в помойное ведро бутылку с отравленной водкой. Можно бы, правда, и самому хлебнуть этой водки, если бы он испытывал страх перед пулей. «Но, — думал он, — пуля прикончит быстро, а яд работает медленно, бросается в голову, заставляет человека бесноваться. Это дело считается непристойным для солдата. Иди своею дорогой, Гриша, теперь у тебя опять есть силы для этого! Будь только ласков с этой глупой, маленькой женщиной».
Не завладей ребенок ее разумом, она сама поняла бы, что добром все это ни в коем случае не может кончиться. И он протер глаза, приподнялся, зевнул и улыбнулся Бабке, которая слегка вздрогнула, еще в полусне, и тоже улыбнулась ему.
Они стали строить планы — как бы сделать, чтобы по окончании войны жить вместе. Может быть, так: он, Гриша, продаст свой домишко, который, видать, больше похож на хлев, и переедет в более привольные края, с которыми он теперь познакомился и которые пришлись ему по вкусу. Здесь тепло, нет холодных восточных или северных ветров, земля плодороднее, где-нибудь на окраине города можно будет арендовать землю.
Он мог бы не расставаться с обеими женщинами — не то чтобы жить вместе, но так, неподалеку друг от друга. Вначале, может статься, трудно будет поладить с Марфой, но ведь она женщина разумная — приспособится. Бабка улыбнулась в счастливом смущении: для ее слуха не было ничего более радостного, чем эти слова; не будь у нее ребенка, она стиснула бы зубы и отпустила бы Гришу на все четыре стороны, но теперь, когда в ней созревал младенец, который должен скоро родиться, было куда приятнее слышать, что он, отец, будет жить поблизости, брать на руки ребенка, ласкать или наказывать, как полагается отцу. Почему бы и в самом деле не ужиться двум женам?
Ревность? Бабка засмеялась.
Она слишком хорошо знала жизнь, инстинктивно чувствовала ее железные законы, она знала — мужчина все равно изменяет и идет своей дорогой, и женщина только вредит себе, если хнычет и следит за ним. Она, видит бог, не станет так поступать с Гришей. Она жила с мужчинами, никогда не думая о детях и не имея их. Но теперь все сложилось иначе — этого не скроешь: дитя в ее утробе подает признаки жизни, оно заполняет ее нутро и заставляет счастливо смеяться…
Герман Захт, который сидел, попыхивая трубкой в своем углу за чтением старомодной книжки потешных историй под заглавием «Сокровищница рейнского друга дома» увидел, как Бабка наклонилась к руке арестованного и поцеловала ее, как целуют руку попа или дедушки.
Затем Бабке понадобилось, как это бывает с беременными, выбежать во двор, а Гриша, тайком от обоих, решительно схватил бутылку, откупорил ее гвоздем, который он держал у себя для разных надобностей, и вылил соленую, резко пахнущую жидкость в ведро.
«Жаль водки, — думал он, сморщив лоб, — это как раз пасторский кюммель». — И вспомнил то воскресенье, когда получил эту бутылку с водкой в подарок.
«Нет, — строго подумал он, сразу почувствовав облегчение, — теперь крышка! Об этом надо было раньше думать. С людьми так не поступают!»
Затем он вылил на стол немного своей собственной водки, чтобы объяснить запах спирта в помещении, сам хлебнул основательно, наполнил водой зеленую бутылку и слегка усмехнулся про себя:
«Пожалуй, эта упряжка парой добром бы не кончилась, — у Марфы нрав ведь строптивый».
Вскоре денщик из буфета принес Грише, по поручению коменданта, абрикосового повидла, свежий хлеб, бутылку вина, чудесную водку вместе с особым приветом от буфетчика и унтера Гальбшейда. Угостив должным образом денщика, Гриша попросил его сходить на обратном пути за столяром Тевье.
— Завтра утром к завтраку будут рольмопсы. — У него не должно быть нехватки ни в чем; а вот и коробка сигарет — сто штук: для него и его гостей.
Когда впущенный Германом Захтом Тевье, остановясь в шапке, произнес благословение, поел хлеба и выпил, сияя, первую чарку водки, Захт заявил:
— Я сыт по горло обязанностями швейцара, с меня хватит. Даже ноги у меня укоротились от этой беготни к дверям и обратно, и завтра, в строю, во взводе, мне, наверно, придется стать на одно или два места ниже, чтобы равняться по росту с другими. Ха, — ухмыльнулся он, — а те все еще торчат на лестнице или в канцелярии — и фельдшер щупает их… — Он отпустил крепкое солдатское словцо. — А наш брат покуривает себе здесь за милую душу, устроившись, словно Иона во чреве китовом.
Тевье очень обрадовался и стал рассказывать из сокровищницы «Мидрашим» неизвестные окружающим сказания об Ионе, ките, Левиафане и рае. Иона, к радости праведников, убьет этого самого Левиафана и подаст его в виде фаршированной рыбы с превосходным соусом.
И затем все трое вернулись к начатой утром богословской беседе, какие любит простой народ. Герман Захт с высоты своей западной просвещенности отрицал бессмертие, Бабка и слышать о нем не хотела, Тевье с видом превосходства выражал свою полную и безусловную веру в него, а Гриша заявил, что он скоро на деле проверит, кто прав. Он только яростно оспаривал, ударяя кулаком по столу, точность познаний Тевье о рае, ибо никому не дано знать, что следует за воскресением мертвых.
— Если погасить свечу или она выгорит, — воскликнул он, — то настанет тьма — это тебе известно. А если зажечь новую, то будет свет — это тебе тоже известно. Но каков будет новый свет и как он будет светить — можешь ты знать об этом? Будет ли свет яркий или слабый, желтый или белый — как знать? Надо выждать.
Герман Захт засмеялся.
— Ну, тогда, значит, я точно знаю, как будет выглядеть воскресение мертвых: вот у меня свечи из лавки — смотрите, одна в одну — обе из хорошего парафина. На голодный желудок можно, пожалуй, соблазниться и съесть их.
— Да, так оно и бывает, — дополнил Тевье, — голод бедняков не знает пределов, порой они готовы сожрать собственное загробное блаженство, чтобы хоть раз насытиться. Это ли не времена Содома и Гоморры?
— Чертовы времена! — крикнула Бабка.
Когда в дверь снова постучали и Герман Захт, ворча — его приподнятое настроение несколько упало, — открыл дверь, он сначала отступил обратно, ослепленный светом карманного фонаря. Он лишь тогда узнал вошедшего, когда последний приблизился к одиноко горевшей свечке и глаза Германа освоились с блеском фонаря.