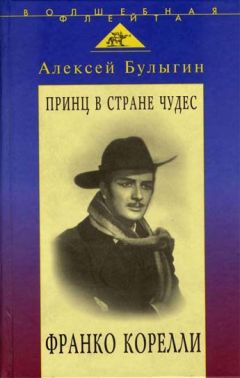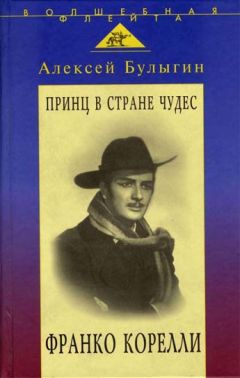Первый день после операции капитан провел в забытьи, а когда очнулся, ощутил ужасную боль и понял, что сработал кишечник. Сам он, однако, не мог и пошевелиться. Он чувствовал себя так, словно по нему в панике пронеслось стадо быков, или его раздавило во время той средневековой пытки, когда на человека клали дверь и наваливали на нее тяжести.
– Дышать не могу, – сказал он доктору.
– Если бы ты не мог дышать, то не говорил бы. Воздух проходит через голосовой аппарат из легких.
– Болит нестерпимо.
– У тебя сломано несколько ребер. Некоторые я сам сломал, чтобы вынуть пули. – Доктор помолчал. – Я должен извиниться перед тобой.
– Извиниться?
– Я взял несколько струн с твоей мандолины, чтобы соединить кости. Ничего другого не было. Ты ведь сделал дискантовые струны из моей хирургической проволоки, и мне пришлось забрать ее назад. Когда кости срастутся, нужна будет операция, чтобы удалить проволоку.
Капитан сморщился от боли.
– Если очень сильно болит, Антонио, нужно вспомнить о том, что коли ты мужчина, то должен чувствовать не боль, а горе. Все твои друзья погибли.
– Знаю. Я был там.
– Прости. – Доктор поколебался. – Получается, что Карло спас тебя.
– Не «получается». Я знаю, он спас меня. Он погиб достойнее всех нас и оставил меня, чтобы я помнил об этом.
– Не плачь, капитан. Мы поставим тебя на ноги, а потом отправим с острова.
– Я воняю, дотторе. Пусть Пелагия не видит этого.
– Если хочешь, я сам буду ухаживать за тобой. Тесновато здесь, да? Ничего, справимся. В этой яме побывало много великих борцов за свободу, так что считай это за честь – лежать посреди такой истории. Должен сказать, что как бы сильно ни болело, тебе нужно как можно чаще менять положение, иначе появятся пролежни. А если они нагноятся, то прикончат тебя так же верно, как пуля. Спи как можно больше, но ты должен шевелиться. Если боль станет невыносимой, я дам тебе морфия, но его осталось совсем немного, а из-за этих немцев он еще может весь понадобиться. Если не возражаешь, я бы предпочел, чтобы ты напивался допьяна. У меня есть еще валериана и ромашка, которые Пелагия собрала весной. Я вынужден просить тебя терпеть боль, сколько сможешь. Уверяю, если сильно болит во время болезни, ты будешь чувствовать себя вдвое лучше, когда поправишься. И твоя признательность станет еще больше.
– Дотторе, мою признательность уже ничто не сможет увеличить.
– Ты все еще можешь умереть, – грубовато сказал доктор. Потом наклонился и доверительно спросил: – Всё хотел узнать – как твой геморрой? Прости, что не справился раньше. Казалось нескромным.
– Я последовал вашему совету, – сказал капитан, – и это подействовало.
– У тебя здесь будет мало возможности двигаться и неважное питание, – сказал доктор, – хотя мы сделаем все, что в наших силах. У тебя, несомненно, возникнут запоры, и, может быть, надо будет промывать тебе кишечник. Не хотелось бы использовать для этого трубку моего стетоскопа, но, возможно, придется. Если мы не будем этого делать, твой геморрой вернется, оттого что придется тужиться. Я прошу прощения, если это для тебя унизительно.
Капитан взял доктора за рукав.
– Пусть Пелагия не видит этого.
– Ну, разумеется. И вот еще что. Ты отпустишь бороду, как грек. Начинай думать, как грек. Я стану учить тебя греческому, и то же самое будет делать Пелагия. Не знаю, где бы достать какие-нибудь документы и продуктовую карточку; может, придется обойтись и без этого.
– Когда мне станет получше, вы должны убрать меня из вашего дома, дотторе. Я не хочу подвергать вас опасности. Если меня поймают, погибнуть должен я один.
– Мы сможем перевести тебя в ваш тайный домик, куда вы ездили с Пелагией. Что ты удивляешься? Все об этом знали. Не было ни одной старухи, которая не сплетничала бы, как сорока. Это от одиночества. Оно делает их болтливыми. И помни, что тебе может не стать лучше. Если я тебя недостаточно вычистил, если где-нибудь есть свищ, пропускающий жидкость, если попал воздух… Немедленно дай мне знать, если появится какое-нибудь ощущение стесненности. Мне придется проделать в тебе дырочку и выпустить воздух.
– Madonna Maria! Дотторе, пожалуйста, соврите мне что-нибудь.
– Я не Пиноккио. Правда сделает нас свободными. Мы всё преодолеем, глядя ей в глаза.
Двумя днями позже капитан свалился в лихорадке, и Пелагия сидела с ним с тайнике, мокрой губкой смачивая ему лоб, чтобы сбить температуру, и прислушиваясь к его бессвязному бормотанью в кошмарах. Меняя повязки, она учуяла ядовитый запах гноя. Отец уверил ее, что это токсины заставили кожу принять желто-кремовый оттенок, но про себя он сомневался, что капитан выживет. Доктор не был уверен, что хорошо провел операцию, но продолжал через равные промежутки делать внутривенные инъекции сахарно-солевого раствора. Он показал дочери, как использовать диванные подушки, чтобы менять положение капитана и уменьшить однообразное напряжение, приводящее к загниванию тела, но заставлял ее выходить из комнаты, чтобы выполнить все те процедуры, которые обычно выпадают на долю большинства женщин и служат проявлением самой большой любви.
На четвертый день наступил кризис; Корелли что-то лепетал и так взмок от пота, что и доктор, и Пелагия стали терять надежду, что он выживет. Доктор Яннис осторожно ввел в каждую рану толстую ветеринарную иглу, чтобы оттянуть гной, на случай если возник абсцесс (он называл это «подкожные хрипы»), но ничего не обнаружил, и причина болезненного состояния капитана осталась для него загадкой. Пелагия вложила ему в левую руку гриф Антонии, его любимой мандолины. Пальцы капитана обхватили его, он улыбнулся, а доктор про себя отметил, что дочь таким образом проявила верный врачебный подход.
Через два дня жар спал и пациент удивленно открыл глаза, словно впервые осознав факт своего существования. Он ощущал невероятную слабость, но выпил козьего молока с добавленным в него бренди и обнаружил, что может, наконец-то, немного посидеть сам. Тем же вечером он с помощью доктора нашел в себе силы встать и дал себя вымыть. Ноги у него дрожали и были худыми, как палки, но доктор заставил его походить по пятачку, пока он совершенно не выдохся и на него не накатила тошнота. Ребра болели больше, чем всегда, и ему сообщили, что, возможно, они будут источником мучений при каждом вдохе еще несколько месяцев. Ему сказали, что для дыхания следует использовать мышцы живота, и когда он попробовал это, заболела рана в брюшине. Пелагия принесла зеркало и показала ему синевато-багровый шрам на лице и отрастающую эллинскую бороду – та чесалась, причиняя почти столько же беспокойства, что и рубцы, и придавала ему разбойничий вид.
– Я выгляжу как сицилиец, – сказал он.
Этой ночью его впервые покормили твердой пищей. Улитками.
Пелагии запомнилось время выздоровления и побега Корелли не как период памятных и упоительных приключений и даже не как интерлюдия между страхом и надеждой, а как медленная увертюра к ее печали.
Как бы то ни было, война ослабила ее. От недостатка еды кожа ее, туго обтянувшая кости, стала полупрозрачной, что придавало ей истощенно-неземной вид, который будет не в моде еще лет двадцать пять. Ее красивая грудь ссохлась и несколько опала, став, скорее, полезными мешочками, чем предметом прелести и объектом желания. Иногда у нее кровоточили десны, и во время еды она жевала осторожно, чтобы не выпал зуб. Ее густые черные волосы истончились и потеряли упругость, среди них виднелись первые седые волоски, которые не должны были появиться, по крайней мере, еще лет десять. Доктор, в силу своего возраста пострадавший меньше, часто осматривал ее и знал, что с начала оккупации она потеряла пятьдесят процентов жировой прослойки. По содержанию азота в моче он определил, что она, израсходовав белок, неуклонно теряет и мышечную массу, и ей становилось трудно больше нескольких минут заниматься чем-то, что требовало энергии. Он установил, что, тем не менее, сердце и легкие у нее пока здоровы, и старался, ссылаясь на отсутствие аппетита, давать ей большие доли молока и рыбы, когда их удавалось достать. Она, в свою очередь, под таким же предлогом отдавала еду Корелли, но это никого не обманывало. У доктора сжималось сердце, когда он видел, как она блекнет: это напоминало ему потрепанные розы, умудрившиеся пережить осень и цеплявшиеся за остатки былой красоты до декабря, словно их поддерживала некая особая милость судьбы, которая тосковала по прошлому, но суждено ей было разрушение. Теперь, когда не было ни застенчивого итальянского офицера, украдкой приносившего им пайки, ни толстого интенданта, у которого можно было что-то выманить, доктор вынужден был опуститься до ловли ящериц и змей, но пока все же не чувствовал склонности экспериментировать с кошками и крысами. Дела обстояли не так плохо, как в Голландии, где кошек подавали как «кролика с крыши», и даже не так скверно, как на материке. Здесь всегда было море – источник существования Кефалонии, но и первопричина всего ее запутанного прошлого и стратегической значимости, которая теперь оказалась лишь странным воспоминанием; то самое море, которое послужит причиной новых набегов итальянцев и немцев – они станут поджариваться рядышком на пляжах, оставляя на воде масляную пленку от увлажняющего крема, туристы, озадаченные пустыми, но полными подозрения взглядами пожилых греков в черном, проходящих мимо без единого слова, будто не замечая.