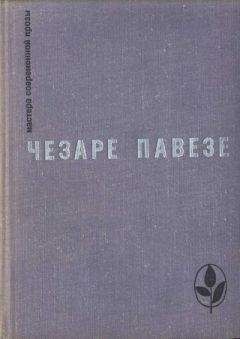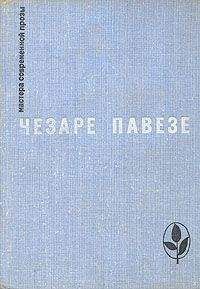— Из пуха или соломы? Ведь я уже старик, — цежу я сквозь зубы.
— Постель из пуха со временем тоже станет жесткой, — отвечает Нуто. — Ты ходил взглянуть на Мору?
А в самом деле, не был я там. Мора в двух шагах отсюда, а я не зашел. Знал, что нет ни старика, ни дочерей, ни ребят, ни прислуги — всех разогнало, разбросало по свету, кто умер, а кто далеко. Остался один Николетто, полоумный племянник хозяина, который столько раз орал на меня, топоча ногами, и обзывал ублюдком. Знал я и то, что половина усадьбы уже продана.
Я ответил:
— Схожу как-нибудь. Я ведь вернулся.
Ill
Свежие новости о Нуто-музыканте дошли до меня даже в Америке. Когда это было? Я в то время еще не думал возвращаться, бросил работу на железной дороге и, пересаживаясь с поезда на поезд, добрался до Калифорнии. Увидел: солнца много, холмы тянутся длинной грядой — и сказал себе: «Тут мой дом». Америка тоже кончалась у моря, но теперь уж не к чему было снова искать пароход, и я остался там, среди сосен и виноградников.
«Вот бы дома посмеялись, — говорил я про себя, — если бы узнали, что и здесь я землю мотыжу». Но в Калифорнии обходятся без мотыг. Работа как у садовника. Встретил там наших, из Пьемонта, и взяла меня тоска — стоило забираться на край света, чтобы повстречать таких же, как я, бедолаг, которые еще вдобавок на меня косятся. Бросил я батрачить и стал работать молочником в Окленде. Вечерами по ту сторону залива сверкали огни Сан-Франциско. Отправился я туда, поголодал с месяц, в тюрьму попал, а когда вышел оттуда, до того мне туго пришлось, что даже китайцам завидовал. Я спрашивал себя, стоило ли ради этого объехать полсвета. Потом я вернулся на холмы.
Прожил там немало, завел себе девушку, но она мне разонравилась, с тех пор как стала работать со мной в баре, что по дороге в Черрито. Поначалу она каждый вечер поджидала меня у выхода, а потом уговорила взять ее кассиршей и теперь целый день глядела, как я за стойкой жарю сало и наполняю стаканы. Вечером я уходил, и она бежала вслед за мной, постукивая каблуками по асфальту, брала меня под руку и требовала, чтобы мы остановили машину, спустились к морю, пошли в кино. Стоило только выйти из ярко освещенного бара, и мы оставались одни под звездами, среди оголтелого стрекота цикад и кваканья лягушек. Мне хотелось увести ее к яблоням, или в лесок, или просто на луг с невысокой травой, хотелось повалить ее на землю, чтоб был хоть какой-то смысл во всей этой сумятице под звездным небом. Но об этом она и слышать не желала. Орет на меня, требует, чтобы мы зашли в первый попавшийся бар. Была у нас комната в одном из переулков Окленда, но Нора, пока не напьется, не давала до себя дотронуться.
В один из таких вечеров я и услышал рассказ о Нуто. От земляка из Буббио. Я распознал его по походке, по стати, прежде чем он рот открыл. Он вел грузовик с тесом и спросил кружку пива, пока ему заправляли машину.
— Лучше бы взяли бутылку, — сказал я на нашем диалекте, почти не разжимая губ. Глаза у него засияли от радости. Мы с ним проговорили весь вечер, пока на шоссе не стали сигналить.
Нора, сидя за кассой, нервничала, прислушивалась, но она никогда не бывала в деревнях под Алессандрией и ничего понять не могла. Я даже налил другу в чашку запретного виски. Он рассказал мне, что дома был возчиком, рассказал о деревнях, которые объездил, рассказал, почему приехал в Америку.
— Знал бы я, что здесь пьют это дерьмо… Ничего не скажешь — согревает, только стоящего вина здесь нет.
— Ничего здесь нет, — сказал я ему, — здесь как на луне.
Нора раздраженно поправляла прическу. Повернув свое вращающееся кресло, она включила радио — передавали танцевальную музыку. Мой приятель пожал плечами, наклонился к стойке и сказал мне, показывая рукой в ее сторону:
— А тебе эти женщины нравятся?
Я провел по стойке тряпкой и ответил:
— Мы сами виноваты, что приехали. Для них эта страна — родной дом.
Он стоял и молча слушал радио. Мне в этой музыке слышалось все то же кваканье лягушек. Нора, надувшись, с презрением разглядывала его спину.
— Все здесь как эта музыка, — сказал он. — Разве с нашей сравнится? Совсем они не умеют играть.
И он рассказал мне о прошлогоднем состязании в Ницце-Монферрато, когда собрались оркестры отовсюду: из Кортемилии, из Сан-Марцано, из Канелли, из Нейве. Играли без конца, а народ не расходился, пришлось перенести на другой день скачки, даже приходский священник слушал, как играли танцы; вино пили, только чтоб силы поддержать, в полночь еще продолжали играть, а победителем вышел Тиберио, из оркестра в Нейве. Но прежде немало поспорили, поругались, кое-кому попало бутылкой по голове. Сам-то он считал, что премию заслужил другой, Нуто из Сальто…
— Нуто? Да я его знаю!
И тогда земляк рассказал мне, каким стал Нуто и чем занимается. Он рассказал, что в ту самую ночь, чтобы показать невеждам, что такое настоящая музыка, Нуто вышел на дорогу со своим оркестром и играл, не умолкая, до самой Каламандраны. Мой приятель ехал за музыкантами на своем велосипеде, ночь была лунная, а играли так, что женщины в домах вскакивали с постелей, подходили к окнам, хлопали в ладоши, и тогда оркестр останавливался, исполнял новую мелодию. Нуто шагал посредине, его кларнет задавал тон.
Нора потребовала, чтобы машина перестала сигналить. Я налил приятелю еще стопку и спросил, когда он вернется в Буббио.
— Я бы хоть завтра вернулся, — сказал он. — Если бы только мог…
В ту ночь, прежде чем спуститься в Окленд, я присел на траве, подальше от дороги, по которой мчались машины, и закурил сигарету. Ночь была безлунная, но в небе пропасть звезд, не меньше, чем лягушек и цикад, не умолкавших ни на миг. Если бы Нора в ту ночь дала повалить себя на траву, мне и этого было бы мало. Все равно не умолкли бы лягушки, все равно доносился бы скрежет машин, переключавших скорость перед спуском, все равно не кончилась бы Америка, все равно гудели бы ее дороги, все равно сверкали бы огнями города ее побережья.
Сидя там, на траве, я вдыхал в темноте ночи запах садов и сосен и отдавал себе отчет в том, что эти звезды в небе мне чужды, что я боюсь их, как боюсь Нору и посетителей бара. Яичница на сале, хороший заработок, огромные, с арбуз, апельсины — все это ничего не значило, все было как те цикады и лягушки. Стоило ли сюда забираться? Куда мне податься еще? Вниз головой с мола?
Теперь я понимал, почему то и дело в машине на автостраде, или в доме, или в глухом переулке находили задушенных девушек. Им, этим людям, тоже хотелось повалиться на траву, хотелось, чтобы их не раздражали лягушки, хотелось владеть тем клочком земли, на котором уместилась бы женщина, хотелось спать настоящим, крепким сном, без тревоги и страха. Ведь страна большая, и земли хватает для всех. И все у них есть — женщины, земля, деньги. Но им всего этого мало, и никто из них, как бы ни разбогател, не остановится, все здесь будто проездом, и даже поля, даже виноградники — и те у них как городской сквер. Повсюду клумбы, как у наших вокзалов, или выжженная целина да груды искореженного металла. Нет, не та это страна, где человек может успокоиться, преклонить голову, сказать другим людям: «Вы меня знаете. Дайте мне спокойно пожить». Вот что пугало. Они и меж собой живут чужаками: едешь через горы, как через пустыню — видно, никто из них здесь никогда не остановится, никогда не коснется земли теплыми руками. Вот отчего пьяного здесь пинают ногами и сажают за решетку. И пьют они злобно, и женщин любят со злобой. Чтобы хоть как-то себя утвердить, душат женщин, стреляют в них, когда они спят, бьют по голове гаечным ключом…
Нора, выйдя на шоссе, позвала меня. Пора в город. На расстоянии ее голос походил на стрекот цикады. Я рассмеялся, подумав, что было бы, если бы она разгадала мои мысли. Но о таком ни с кем не говорят, это ни к чему. Как-нибудь утром она просто не застанет меня на месте, вот и все. Но куда направиться? Я забрался на край света, дошел до последнего берега, и с меня, пожалуй, хватит. Тогда-то я и стал подумывать, не вернуться ли назад, в наши края.
IV
Нуто не пожелал взять в руки кларнет даже в храмовый праздник Успения. Он сказал: «Это что курево — хочешь бросить, значит, бросай по-настоящему». Вечерами он приходит ко мне в гостиницу, и мы сидим с ним у меня на балкончике, дышим свежим воздухом. Балкон выходит на площадь — там столпотворение, но мы глядим поверх крыш на побеленные луной виноградники на холме.
Нуто, которому во всем надо разобраться, сидит, опершись локтями о перила, слушает, хочет узнать от меня, что творится на свете, о чем люди говорят, и сам объясняет мне что к чему, рассуждает о жизни.
— Умей я играть, как ты, не поехал бы в Америку, — говорю я. — Знаешь, как в таком возрасте бывает… Стоит увидеть девушку, подраться с кем-нибудь, вернуться домой под утро… Хочешь что-нибудь сделать, стать человеком, на что-то решиться. Чтоб все по-другому пошло. И кажется, что для этого лучше всего уехать. Вдобавок наслушаешься россказней. В молодости такая площадь для тебя — целый мир. Думаешь, что весь мир вроде нее…