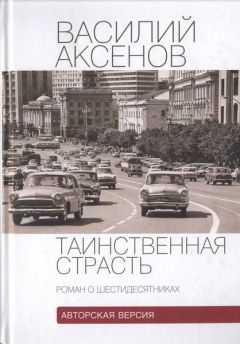Он поносил свою летучую немного в охапке, но вскоре обессилел и расположил ее среди подушек и одеял. Приспел неизбежный вопрос: «Это кто же тебя обучил таким полетам?»
«Никто, — бойко ответила она. — Это я сама придумала, когда грезила тобой».
Было видно, что не врет. Он запускал ей пальцы в пшенично-медовые волны. Она целомудренно их ловила (пальцы) и обсасывала один за другим.
«Почему ты сбежала от меня. Ралик?»
«Не знаю, — задумчиво ответила она. — И тогда не знала, и теперь не знаю. Скорее всего, хотела тебя от себя освободить. Но, может быть, также был и соблазн: Лондон, Блумсбери Плэйс, образ Вирджинии Вулф… Между прочим, я завела там литературные связи. Они там все обалдели, когда советская послиха стала с ними водить знакомство. Если кто-нибудь набирался, обязательно спрашивал: какой у вас чин, мэдам?»
«А какой у тебя чин, мэдам?» — спросил Ваксон.
«Майор КГБ, сэр, — бойко ответствовала она. — Первый отдел, секция орального секса, сэр».
Только сейчас они поняли, что теплоход пришел в движение и норовит покинуть створ ялтинского порта. В приоткрытое окно интенсивно входил исторический воздух влюбленных пар, от Гектора и Елены к Ваксону и Ралиссе через Ягайлов и Ядвиг.
По завершении заверения только что сделанного признания, сорри, сэр, любимая майор резво прыгнула к своему чемодану и извлекла оттуда два журнала, «Энкаунтер» и «Нью-Йоркер», в которых любитель современной литературы, и в частности жанра рассказа, мог найти творения некого Джона Аксельбанта. Судя по лексикону и стилистическому своеобразию, можно было представить, что автор провел добрую часть жизни на американском авианосце. Впрочем, связь с плавучими центрами сквернословия на этом и заканчивалась. Фабула и сюжетные повороты уводили читателя в советское алкогольное подполье.
Первый рассказ назывался Check Your Point, Charlie. Там опустившийся советский перебежчик бродит по Западному Берлину, пытаясь по надписям в сортирах найти следы своей возлюбленной. Второй рассказ под названием That’s Hooey, построенный на игре различноязыких матерщин, повествовал о западном агенте, который привез в Москву сверхсекретное измерительное устройство, а потом продал это устройство за пол-литра водки.
«Ралик, неужели это ты сама, да еще по-английски, крутосваренно так накатала, моя л-вь?» — поражался Ваксон.
Она хохотала.
«Это не я, а Джон, который Аксельбант! И между прочим, с ним уже договор на книгу заключил „Рэндом Хауз“, единственное издательство в Нью-Йорке, которое получает прибыль от серьезной литературы».
«И аванс дали проходимцу Джону?»
«А как же! Отслюнявили пол-лимона. Теперь он может жить спокойно и даже подкармливать своих друзей, Вакси и Ралика».
Он подтащил ее ухо к своему рту.
«У нас тут за валюту расстреливают, мэм».
Она решительно опровергла: «Это при Никите расстреливали, а при Брежневе просто дают десять лет. Так что успеем еще немного пое-ться. А может быть, и молодыми еще выйдем по УДО».
«Это что еще за японщина?»
«Условно-досрочное освобождение».
«Лучше все-таки улететь вдвоем».
«Согласна».
Засим они крепко заснули в обнимку и не слышали даже, как в каюту вошла буфетчица с подносом, на котором среди прочего были шашлыки по-карски и бутылка «Нового света».
Проснулись они в девять по Гринвичу и в полночь Москвы. Съели все, что было на подносе, вплоть до вазочки аджики. Выпили пузырящегося в честь л-ви. Отправились гулять по плавсредству, он в пиджаке с Пикадилли, она в советских байковых шароварах и босиком. Все серебрилось под Луной: ну, в общем, описывать всего этого куинджи нет ни малейшей охоты: читатель нашего романа и сам знает, почем ночное серебро. Добавим только, что тиха была черноморская ночь. И вдруг дошел до их ушей какой-то галдеж умеренной громкости. Прошли по палубе несколько шагов и увидели, что широкий трап, спускающийся со шканцев к корме, усажен почти до предела участниками «Плавучего форума». На верхней ступеньке оказалось место, достаточное для двух задков, там и уселись. Слева от Ралиссы оказался Эр, справа от Ваксона дама, с которой он тоже когда-то играл.
«Как дела, Роберт?» — спросила Ралисса.
«Твоими молитвами», — ответил тот.
«Поздравляю, к вам вернулся ваш идеал», — с неоправданной дозой ехидства сказала Ваксону знакомая дама.
«Премного благодарен», — ответил тот.
Галдеж, возникший по вопросу эмиграции, слегка утих, потому что «площадку захватил» самый информированный по щекотливым политическим делам Ян Александрович Тушинский. Он стал рассказывать, как встретился недавно в одном доме на Соколе с главным правительственным толмачом. Фамилии он не назвал, но все присутствующие поняли, что речь идет о Влажнодреве. Догадаться было нетрудно, хотя бы потому, что этот стильный молодой человек был вхож в их собственную художественную среду. Обстановка в том шикарном доме в тот вечер была дружелюбной и порядком хмельноватой, языки у всех развязались, и Влажнодрев не был исключением. Ему хотелось обратить на себя внимание присутствующих дам, и он стал рассказывать о недавнем визите американского президента Никсона.
Оказалось, что Никсон и Брежнев очень понравились друг другу; можно сказать подружились. После завершения официальных переговоров оба лидера отправились на отдых в Крым. Вместе охотились в заповеднике «Красный камень». Настреляли немало специально подогнанной дичи. Потом кутили и рассказывали друг другу анекдоты, а Влажнодрев всегда сидел между ними. Потом поехали вместе в аэропорт, сидели вместе на заднем диване лимузина, а он, Влажнодрев, был между ними, как начинка сэндвича. Вот тут и произошел весьма интересный разговор, о котором можно рассказать, потому что тема вскоре будет известна всем.
«Послушай, Леонид, — обратился к нашенскому ихний, — не можешь ли ты мне дать совет как выдающийся политический деятель нашего времени? Понимаешь, у нас приближаются выборы, и в этой кампании, как всегда, очень существенную роль будут играть наши евреи. Ты знаешь, сколько их у нас?»
«Сколько, Дик?» — заинтересовался наш, как будто он сам не знал.
«Шесть миллионов, то есть в два раза больше, чем в Израиле».
«Ай-я-яй», — покрутил головой генсек, но больше ничего не сказал.
«Конечно, это большой процент голосов, — продолжил „Дик“, — однако их влияние через средства массовой информации, а то и просто в толпе, никакими процентами не измеришь. Спрашиваю тебя по-дружески: ты можешь помочь нашей Республиканской партии?» — «Каким образом, Дик?» — прокряхтел нашенский. «Сейчас объясню, — оживился ихний. — Понимаешь, в Америке очень многим не нравится ваша политика в области еврейской эмиграции, или, как израильтяне это называют, репатриации. От вас течет туда слишком маленький ручеек, Леонид, большинство получает отказ. Вот если бы вы смогли превратить этот ручеек в стабильный поток, американцы бы поняли, что это произошло под влиянием наших переговоров и наших с тобой, Леонид, личных бесед. Результат выборов был бы в нашу пользу. Что ты скажешь по этому поводу?» Ответ пришел не сразу. Брежнев довольно долго молчал. Никсон, не скрывая напряжения, смотрел на него. Влажнодрев наблюдал генсека в зеркале заднего вида. В конце концов Брежнев начал кехать и чмокать и наконец разродился: «Ну что ж, Дик, — он произносил „Дык“ — Берите евреев». Счастливый Никсон тогда по-дружески его приобнял, для чего Влажнодреву пришлось пригнуться. Рассказав эту историю, что называется, из первых уст, или, как американцы говорят, from the horse’s mouth. Ян Тушинский обратился к своим еще вчера сплоченным, а сейчас уже слегка отчужденным друзьям. «Представьте, ребята, что сейчас начнется! Какое количество евреев, полуевреев и даже вовсе не-евреев ринется под эту марку через рубеж! И среди нас найдутся желающие сквозануть в пресловутый „свободный мир“. Мы должны сохранить наше творческое поколение!» Он сидел прислонившись к пилястру трапа и мог обозреть сразу все собравшееся ночное общество. Под интенсивным светом Луны все это имело слегка нереальный вид. Первым откликнулся на риторическое обращение общий любимец Гладиолус Подгурский.
«Что касается меня, то я первым отсюда свалю, — убежденно сказал он. — Все свое еврейство соберу по перышкам, авось четвертинка с маминой стороны наберется».
«Нет, Глад, тебе не удастся уехать первым, потому что первым уеду я!» — воскликнул Генри Известнов, и все содрогнулись, потому что без этого гения не очень-то представляли Москву. Роберт схватился за голову и так мотал ею (башкой). Ян бил себя кулаком по колену. Нэлла из-под ладони смотрела в серебристое пространство и молчала, но видно было, что она потрясена. Ведь был с самого начала, с конца Пятидесятых стоял вместе с ними в контексте наступательного послесталинского искусства. Быть может, всем в эти моменты припомнилось Яновское: