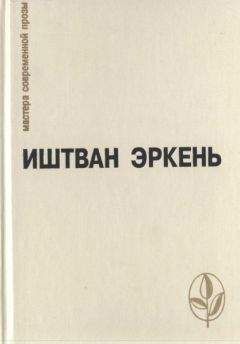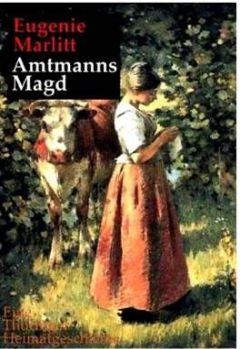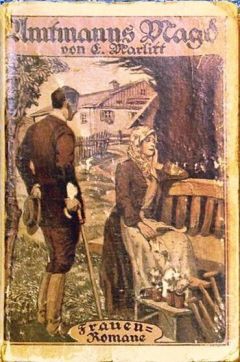— Совершенно нелепые теории о природе музыки.
— Что же все-таки говорила Паула?
— Бог ее знает! Такую чушь обычно в одно ухо впускаешь, в другое выпускаешь.
— Все же мне хотелось бы знать.
— Объясняла мне музыку Вагнера. «Мейстерзингеры», видите ли, навевают покой; когда слышишь их, все горести уходят прочь.
— Интере-есно!
— Да полно вам! Эти банальности единственно тем и интересны, что с равным успехом можно утверждать и нечто прямо противоположное. Взять, к примеру, ее высказывание о бесплотности музыки.
— Это подлинные ее слова?
— Ну, не мои же!
— А по-вашему, это не верно?
— Верно… С точки зрения невежды. Так же верно, что бесплотен воздух для бескрылых тварей. Но птица знает, что нет опоры более надежной, чем воздух.
— И когда это Паула успела вам сказать?
— Сегодня вечером.
— Я спрашиваю, когда именно. За ужином этой темы не касались, по дороге из Пештэржебета — тоже…
— В такси, пока я провожал ее домой.
— На такси до ее дома полторы минуты.
— Мы задержались в машине.
— И надолго?
— Порядочно. Водитель раз пять оглядывался на нас.
— Не узнаю Паулу! Меня она заверяла, будто бы совершенно не разбирается в музыке.
— Она и вправду совершенно не разбирается.
— И никогда на этот счет не высказывалась.
— Перед вами не высказывалась.
— Выходит, только перед вами? Но почему?
— Не хочу, чтобы вы разочаровались в своей приятельнице.
— Она кокетничала с вами?
— Кокетством меня не проймешь.
— Но пыталась кокетничать?
— Со мной все попытки бесполезны.
— Спокойной ночи.
— Как, уже? Почему это вы вдруг решили оборвать разговор?
— Совершенно засыпаю.
— Но я должен сказать вам нечто важное.
— Догадываюсь, что именно.
— Что же?
— Что на других женщин вам и смотреть не хочется.
— Вот и не угадали.
— Давайте отложим этот разговор на завтра.
— Но почему же?
— У меня глаза слипаются.
— Спокойной ночи, любовь моя единственная!
Второй телефонный разговор
— Я не разбудила тебя?
— Что ты! Лежу без света, а сна — ни в одном глазу. Ломаю голову и не знаю, на что решиться.
— А в чем дело?
— Да вот… не знаю, то ли сказать тебе, то ли промолчать.
— Это касается Виктора?
— Ты не обидишься, если я откровенно выскажу свое мнение?
— Надо понимать, он тебе не понравился?
— Как о певце я о нем судить не могу, но чисто по-человечески… Прости, это — чудовище!
— Я ведь заранее тебя предупредила, что он шумлив, назойлив и манеры его оставляют желать лучшего…
— Будь он только шумлив, это бы еще полбеды!
— Так что же он натворил?
— Сказать, что именно? Нет, язык не поворачивается!
— Неужели так ужасно?
— Расскажи мне прежде, что он собой представляет как человек? Что у него за душой? И вообще, ты давно с ним знакома?
— Я знала его еще до замужества.
— А если подробнее? Как ты с ним познакомилась?
— Я тогда училась на первом курсе по классу пения, а он был выпускником политехнического института, без пяти минут инженер.
— Странно как-то.
— Что же тут странного?
— Что позднее он стал профессиональным певцом, а ты вышла замуж за другого человека. Прямо в голове не укладывается. Разве ты не любила его? Или тот, другой, тебе нравился больше?
— Бедняга Бела? За него мама стояла горой. По мне, твердила она, лучше аптекарь, который желает остаться аптекарем, чем инженер, который лезет в оперные певцы.
— Но ты, по-моему, была не из тех, кто боится ослушаться маменьки.
— Ты права. По сути, я сама сделала выбор в пользу Белы.
— Почему?
— Теперь и не вспомнить. Думается, я боялась Виктора.
— И неудивительно. Как я тебя понимаю! Скажи, почему ты его боялась?
— Кому это интересно? Все прошло и быльем поросло.
— Тебе не хочется говорить об этом?
— О чем?
— Что именно тебя в нем отпугивало?
— Его необузданность. Вернее, ненасытная страстность. Он делался невменяемым, стоило ему только увидеть…
— Что увидеть?
— Мою грудь.
— У тебя была красивая грудь?
— Да, очень.
— Тогда в моде была большая грудь.
— Моя казалась большой по контрасту с осиной талией.
— Ты носила корсет?
— Один-единственный раз надела, и он мне тут же закатил сцену. «Женская грудь — это моя слабость. И если еще когда-нибудь увижу на вас этот безобразный панцирь, то сорву его прямо посреди улицы».
— Чудовищно! Весь человек в одной фразе! Пожалуй, он действительно способен был это сделать.
— Вполне способен. Стоило ему заметить легкое колыхание блузки, и он себя не помнил: лицо его багровело, рука как бы сама тянулась к моей груди. Ну, а уж если он был рядом, когда я шла по лестнице!.. Однажды он точно дикарь набросился на меня.
— Где это случилось?
— В Музыкальной академии на парадной лестнице.
— На глазах у всех?
— К счастью, в тот момент поблизости никого не было.
— И что он делал в таких случаях?
— Да ничего особенного.
— Ты, наверное, со стыда сгорала?
— Вовсе нет. Он лишь приник лицом.
— Как это?
— Спрятал лицо свое у меня на груди.
— А что потом?
— Покачивался и тихонько напевал, как бы убаюкивал себя.
— Напевал? И что же он пел?
— Просто тянул какую-то мелодию.
— Вот скотина! И ты терпела?
— Я не могла ему противиться.
— А что произошло, когда ты вышла замуж?
— Что должно было произойти, по-твоему?
— Ты порвала с ним?
— Порвать с ним невозможно. Он стал приходить к нам на ужины. Мой покойный Бела души в нем не чаял, бедняга, а Виктор на каждое свое выступление присылал нам билеты в ложу.
— Твой муж тоже любил музыку?
— Нет, но ради меня он был готов на все. Купит, бывало, конфет, а как поднимут занавес, он изо всех сил пытается изобразить жгучую заинтересованность. Правда, во время сольных партий он, как правило, шуршал конфетными обертками, и меня это совершенно выводило из себя. «Перестаньте вы, наконец, шуршать этими проклятыми бумажками, единственный мой», — шипела я.
— Он что, назло тебе старался шуршать?
— Нет, конечно.
— И так-таки ни о чем не догадывался?
— Трудно сказать. Знаю лишь, что Виктора он уважал, меня он любил и ни разу ни словом не обмолвился на наш счет…
— А ты?
— Я тоже любила своего мужа.
— Разве не Виктора?
— К чему ворошить прошлое?
— Иначе и я не решусь открыть тебе всю правду.
— Ладно, будь по-твоему: я не любила Виктора.
— Ни до замужества, ни после?
— Никогда.
— Но не отвечала ему отказом?
— Ответить можно, когда тебя спрашивают. А Виктор зря слов не тратит. Кровь ударяет ему в голову, лицо становится пунцовое, и руки у него сами так к тебе и тянутся. И словно бы рук этих не одна пара, а несколько. Точно щупальца у спрута…
— Точно у спрута! Верно подмечено! Я испытала то же самое.
— Что значит — «то же самое»?
— До сих пор, как вспомню, так мороз по коже!..
— Выражайся яснее.
— Ах, ты не поверишь… Он меня тискал!
— Где же это?
— В такси.
— И за какие же места он тебя тискал?
— Точь-в-точь как ты сказала: всеми восемью щупальцами одновременно и везде, где только можно…
— Бедняжка!.. И как же ты вытерпела?
— Я была сама не своя. Онемела, забилась в угол и дрожала всем телом. Таксист несколько раз оглядывался на нас.
— Не говорила ли ты ему чего о «Мейстерзингерах»?
— В тот момент я не могла бы даже сказать, как меня зовут.
— Я к тому, что, когда с ним заговаривают о музыке, он выходит из себя.
— У меня и в мыслях не было выводить его из себя!
— Прошу тебя, Паула, успокойся.
— Не могу. Ощущение такое, будто я вся искусана бешеным псом.
— Попытайся заснуть.
— Мне страшно… А вдруг он ворвется и снова набросится на меня? Не то что спать, я глаз сомкнуть не решаюсь.
— Прими снотворное.
— Давай больше никогда не говорить о нем.
— Это я тебе обещаю.
— Даже имени его не упоминай!
— Не беспокойся, не стану.
— Мне до того страшно, что я не решаюсь вынуть свою вставную челюсть.
— Ну, так и не вынимай ее.
— Тогда я заснуть не смогу.
— Прими снотворное.
— Разве что со снотворным…
Гармиш-Партенкирхен
Миши обижен на меня. Это случилось впервые, и мне очень грустно.
А предыстория такова, что шестнадцать лет назад, на мюнхенском аэродроме он встретил меня словами: «Мама, я выполню все, что бы вы ни пожелали. От вас же прошу одного: держитесь подальше от наших соотечественников. Все годы, что я живу на Западе, я не общаюсь ни с кем из здешних венгров, а письма оттуда оставляю без ответа». — «За меня можешь быть спокоен, сын мой», — вот все, что я сказала.