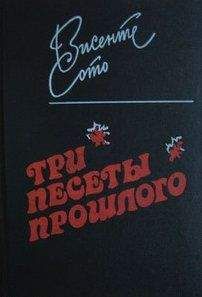На чердаке, под самой крышей, он устроил себе что-то вроде мансарды. На Палмерс-Грин, в северной части Лондона. Тут протекала его жизнь. Два больших окна, друг против друга. Видно далеко-далеко. Деревья, крыши, гаражи, оранжереи, сараи. Вис смотрел вдаль и вспоминал. Здесь же, на нескольких полках, Вис держал свои книги. Стол и кресло. Пачка кофе и сногсшибательная кофеварка. И проигрыватель, птицы слетались — послушать. Начинали подпевать. У одних получалось неплохо, у других — так себе. А бывало, и совсем не получалось. Чердак, по сути дела, был не старый, пришлось добавить старины. Антиквариат и просто старье, Бла в этом разбиралась. Керосиновые лампы, допотопные — тоже вещь! — пара письменных приборов в викторианском стиле — викки, говорят завзятые антиквары, и, конечно, Бла, и разные фигурки, тарелки, майолика. Викки или толедская старина (некоторые из них — жуть). Несколько старых картин — конечно, и та, которую Бла купила на толкучке. Но лучше всего были стоявшие на полу часы, по крайней мере двухметровые, изготовленные около тысяча семьсот девяностого года фирмой “Стейнинг”. На Шепет-маркет[12] купили. Антиквар, низенький жизнерадостный толстяк, доверительно поведал, что в этих часах, он подозревает, живет привидение. И расхохотался. Да, конечно. И крутил головой, как бы говоря “кто ж этому поверит” или “что поделаешь, чего в жизни не бывает”. Фантом всегда порождает фантазии, ну что ж, почему бы и не помечтать. Но жизнь есть жизнь. А инфляция, а существует ли Педро, а растреклятый кроссворд? Нет, слишком полагаться на фантомы Вис не мог. Часы тикали спокойно, по-монастырски, покой и благодать, ничего, что утром, без семи, восьми или даже без десяти семь, они начинали бить семь раз, не соблюдая механической точности. Именно в это время Вис должен был уходить на работу. По крыше уныло стучал дождь, завывал ветер. И к тому же выла и выла овчарка у соседа-грека. Сам грек умер. Давно уже, больше чем полгода назад. Да, именно так. Хороший был человек. Жил он напротив, через улицу. Было ему лет пятьдесят, на вид — здоровяк. Но жизнь есть жизнь. Скоропостижно, ни с того ни с сего. Остались жена и сын, тоже симпатичные люди. И овчарка, которая после смерти хозяина начала тихонько и жалобно его оплакивать. Всю улицу заполнили цветы, траурные ленты, рыдания, молитвы и причитания по-гречески. И тоскующий пес, задрав к небу волчью морду, выл. На другой день — то же самое. И так день за днем. Нет, не все время. Только в какие-то минуты, когда у него появлялась такая потребность. Поначалу вой приводил Виса в отчаяние, он затыкал уши, но понемногу стал привыкать, пес как будто составлял ему компанию. Он скулил (теперь уже не выл) так жалобно и проникновенно. Его тоска была Вису понятна. Вполне.
Вис встретил в своей мансарде много рассветов: с начала сентября и почти до конца ноября. Убегал от бессонницы. Царапал что-то на листках прошлогоднего календаря, почти сознательно забывая потом, что написал. Но иногда какой-то след оставался в его памяти. Далеко не всегда. Ткал и распускал паутину надежд и отчаяния, как он сам выражался. Он уже не спрашивал себя, существует ли Педро. Существует ли Бофаруль? Вот именно. Бофаруль. Не выдумал ли я его, а он водит меня теперь за нос со своими тремя париками? Если он не понимает, что без его помощи я не могу ничего сделать, значит, он не существует. Вот до чего дошел Вис примерно за три месяца. Но в какой-то миг он вдруг снова услышал, как кричит, как зовет его эта история, которую замолчали, подошел к картине, купленной на толкучке, зашагал по мансарде, возможно, выдвинул ящик стола, поискал, рывком задвинул. В то утро он вытащил сверточек со всеми реликвиями, хранившийся за холстом, и все разложил на столе. Еще раз внимательно, как всегда, оглядел. Я всегда смотрю на них как на кусочки жизней и смертей, которые даже тогда, когда некому о них рассказать, пахнут трагедией: горячей кровью, ненавистью и крестьянским потом. Разве сама неполная дата на письме — только число и месяц — не наводит на мысль о том, что перед этим было другое письмо, так что не было надобности указывать год? Другое письмо, содержавшее страшное известие, которое в этом письме скупо обозначено. “Всего было тринадцать песет, из них вычтено тридцать пять сентимо за пересылку…” Нашли ли эти деньги в кармане умершего? Или он передал их кому-то перед тем, как его повели на смерть? Деньги, конечно, переслали вдове в надежде, что она сообщит усопшему, мол, с ней рассчитались честь по чести. Все, и на земле мир, и в небесах… Но вот чего Вис никак не мог понять, вот где концы не сходились: оплата почтовых услуг была произведена, безусловно, не из тех денег, которые в свертке, и сумма не включена в расчет, и это не франкистские деньги (Вис думал и думал и наконец решил, что это не те деньги, которые переслали вдове, они не могли быть республиканскими — за это говорило само письмо, в котором упоминалось о смерти, и сам факт, что письмо было спрятано в картине религиозного содержания, а с ним вместе были спрятаны республиканский значок, бумажные песеты, подписанные по крайней мере одним расстрелянным республиканцем, имя и адрес алькальдессы, которая была приговорена к смерти, а Вис все острее чувствовал, что смерть тогда означала расстрел); скорей всего, кто-то сохранил три песеты из Кастельяра и шесть республиканских песет (одна бумажка достоинством в пять песет, другая — в одну) как реликвии в память о недавно минувшей эпохе. А непогашенная марка, зеленая, на которой, как показалось Вису, был изображен Сид на коне, может, она что-нибудь прояснит? В марках Вис не разбирался. Помнилось, вроде бы франкистская. Если бы кто-нибудь мог по ней определить год, это было бы уже нечто… Он перевел взгляд на три песеты из Кастельяра, цвета засохшей крови. Измятые, истрепанные в мозолистых крестьянских руках. С тремя подписями, подпись Хасинто Родеро — в центре. Что ж, дайте мне истории на три песеты. Местной, здешней истории, но значение ее — всемирно. В этих трех немых бумажках — три стоп-кадра минувших времен. Дайте мне соли на три песеты, говорила женщина, выкладывая на прилавок три такие бумажки. А сколько стоит фитиль? — спрашивал старик в табачном киоске, и продавщица отвечала: две песеты, и старик отдавал ей две бумажки. В темпе повседневной жизни бился пульс умирающей эпохи. Есть еще шесть республиканских песет. Вышедших из употребления, побежденных. И адрес, написанный рукой алькальдессы. И значок (ВСТ), который катается по столу, как фишка (муж Хосефы Вильяр, надо полагать расстрелянный, гордо носил его на лацкане пиджака сорок или пятьдесят лет тому назад). И Вис снова шагал взад-вперед по мансарде, снова останавливался у стола, и смотрел на разложенные реликвии, и видел в них вещественные доказательства для народного суда над преступлением народа. И говорил себе: типичный иберийский цирк, олицетворение иберийского духа. И жирными мазками клал слова, не созданные для литературы, клеймил, пригвождал к позорному столбу то, что оставило неизгладимые пятна на историческом полотне Испании, не жалея при этом ни красной, ни черной краски: кровь, огонь, пустота, перекошенные лица, побеленная известкой стена, изрешеченная пулями. Франсиско Гойя. Убитые и умирающие — в одной куче, страшно смотреть. Вереница пленных. И Вис снова макал кисть, погружал ее в банку до самого дна и, как Солана[13], изображал дымящиеся развалины, гибель народа. Перед глазами его стояли стены, продырявленные пулями, выщербленные рикошетом, с засохшими пятнами крови, потому что слово “расстрел” означает сконцентрированный залп, срезающий череп на уровне глаз, а следующий залп разворачивает грудь, и из нее струей льется кровь, вынося наружу осколки раздробленных ребер и куски мяса. Вис сел, облокотился на стол, подпер руками подбородок. Светает? И закрыл глаза.
Температура спала, кашля почти нет, завтра он пойдет в школу. И слава богу, а то скука — хоть умирай, к тому же завтра четверг, после обеда уроков не будет и можно пойти в лавку Тимотео, купить маску. Хоть масок у Тимотео полно, приближается карнавал, могут расхватать. Когда все думали, что он спит, он встал с кровати, прошлепал босиком по полу, стуча зубами в ознобе, и ножом вытащил из копилки восемьдесят пять сентимо. Если вываливалась песета или дуро, опускал обратно в копилку. Ему нужна была только мелочь. Серебро и медяки. Монеты выскакивали слегка припорошенные гипсом и из-за этого выглядели как старинные, он отчищал их до блеска. Маска стоила не дороже реала, но надо взять больше, на всякий случай. Ему уже не терпелось поскорей выйти на улицу. Целую неделю он лежал и смотрел в потолок, только этим и мог хоть как-то развлечься, потому что на потолке видишь отблески лампадки, мама, почему ее называют “бабочкой” — не знаю. Наверное, потому, что свет ее трепещет, как крылья бабочки — это когда бабочка вот так машет крыльями? Да-да, помолчи, не то опять поднимется температура. Скучища, конечно, когда только и дела, что смотреть, как трепещут отблески. Хотя это и было занятно: трепетание крыльев, тени и отблески, как на воде. Только краски потемней. “Бабочка” — это хорошо придумано. А все потому, что масло в лампадке сверху, а внизу вода, фитиль продет через кусочек картона, который плавает в масле, и язычок пламени дрожит, как души в чистилище: они ведь тоже горят в огне и обжигаются, ого, еще как обжигаются. Помнишь, как тебе обожгло кончик пальца, когда на него попала отлетевшая головка спички и прилипла? А теперь представь себе, что вся твоя душа в огне чистилища, а там все души извиваются, как языки пламени, и каются в грехах. И он думал, ого, как это должно быть плохо, страшно и больно — гореть в самом пекле целую вечность, всегда-всегда, веки вечные, нет, туда он не попадет. Надо бы спросить об этом тетю Лоли, хотя нет, он и так почти уверен, что не попадет. Горит же лампадка, она его защищает, она волшебная, зажги ее — и ты спасен. А не то мог бы и он угодить в пламя чистилища, и на много лет, это не шуточки, на триста или четыреста лет, скучное это дело — считать свои грехи и срок наказания за них, иногда у него получалось три тысячи семьсот пятдесят три года, иногда две тысячи сто сорок пять лет, он считал, считал и засыпал, а когда просыпался, не мог вспомнить, на чем остановился, ну, скажем, тысячу лет за то, что он, пожалуй, четыре тысячи раз сказал плохое слово, наверняка не меньше, и девятьсот семьдесят семь лет за то, что пририсовал пипку человеку на плакате, и тут сердце у него екнуло, он вспомнил о Бернабе, потому что когда дон Сальвадор повесил на стену большой плакат с надписью “Человек” и стал показывать мышцы, желудок, кишки, кости, печень и сердце, потому что это проходят в первом классе, ведь им уже по шесть лет и они уже вовсю читают, а некоторые дошли в таблице умножения до семи, — так вот, дон Сальвадор говорил: это бицепсы — и еще какую-то ерунду о пищеварении, а Бернабе тихонько-тихонько: у этого сеньора нет пипки, — хорошо, что дон Сальвадор стоял спиной, водил указкой по кишкам, — а сердце у Хитина екнуло потому, что он вспомнил: все эти дни он ничего не носил Бернабе, он всегда брал для него какую-нибудь еду — хлеб с сыром, или колбасой, или еще что-нибудь, — потому, что как-то на большой перемене вытащил он свой завтрак — молочную булочку и омлет с петрушкой, сразу было видно, что вкусный, — а Бернабе и говорит: какой ты счастливый, парень. — Подошел и сказал. Титину стало очень неловко: он увидел, что у Бернабе нет никакого завтрака. И Титин говорит: хочешь немножко? — А тот: да нет, что ты, — и Титин отдал ему половину, а Бернабе сказал: ого, вот это да, обожраться можно, — и с тех пор они еще больше сдружились, а ведь до этого они как-то поцапались, Титин сказал: давай поменяемся, я тебе дам мой французский футляр для зубочисток, а ты мне — свою рогатку — футляр этот Титин забрал у тети Лоли, — ты только погляди, какой он белый, из слоновой кости, с дырочками, посмотришь в дырочку — а там такой волшебный стеклянный шарик и написано Souvenir de Boulogne[14], это по-французски, а посмотришь в дырочку пониже — и увидишь фотографию с кораблями и надписью: Le port, порт, по-нашему, а если чуточку вбок посмотришь — увидишь Le casino, казино, значит, — это потому, что рогатка, ого, иметь такую рогатку — все равно что иметь такого дядю, как Ригоберто, она железная, тяжелая, еще какая тяжелая, а резина такая крепкая, что еле натянешь. Ничего себе рогатка! Вот как это было: я тебе французский футляр для зубочисток, а ты мне — рогатку, — а Бернабе ни в какую: рогатка лучше, — ну да, сказал тоже, а дырочки, это что тебе? — Тогда Бернабе сказал: баба ты, — а Титин: от такого и слышу, — Бернабе: у тебя в доме одни бабы, — Титин, конечно, тоже не остался в долгу. Тогда Бернабе говорит: я скажу дону Сальвадору, — а Титин: скажи, если ты ябеда. Бернабе сжал кулаки, стиснул зубы и ничего не сказал дону Сальвадору.