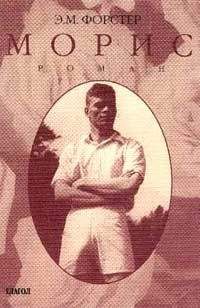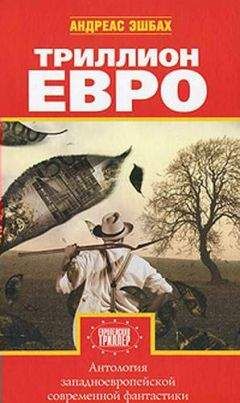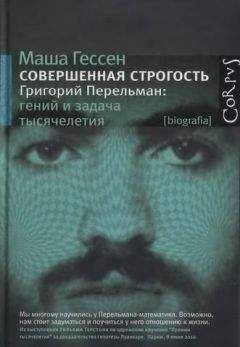— Заткнись, — сказал декан.
— Но я — дитя света…
— Заткнись.
Так беседа вошла в нормальное русло. Рисли не был самовлюблен, хотя постоянно говорил о себе. Он не прерывал собеседников. Не притворялся безразличным. Резвясь, как дельфин, он сопровождал их, куда бы они ни направились, и не ставил преград их курсу. Он принимал участие в игре, но оставался серьезен. Для него было важно сновать туда и сюда так же, как для них — продвигаться вперед, и ему нравилось быть поблизости. Еще несколько месяцев назад Морис поддержал бы Чепмена, но теперь, когда он убедился, что у всякого человека существует изнанка, он подумывал, а не сойтись ли с Рисли поближе. Ему польстило то, что после ленча Рисли ждал его на лестнице со словами:
— Вы заметили, сколь бесчеловечен мой кузен?
— Нас он устраивает, это все, что я знаю, — вспылил Чепмен. — Он совершенно замечательный.
— Вот-вот. Как всякий евнух, — сказал Рисли, и был таков.
— Ну!.. Ну, я просто… — задохнулся от возмущения Чепмен, однако британское самообладание заставило его придержать глагол. Он был потрясен до глубины души. Он не против заносчивости в разумных пределах, толковал он Морису, но это уж слишком, это не по-джентльменски и даже подло — видимо, парень не прошел школы, подобной Саннингтону. Морис согласился. Назови своего кузена дерьмом, если хочешь, но не евнухом. Это гадко! И в то же время Морису было смешно, и когда бы в будущем он ни встречался с деканом, на ум лезли шаловливые, неподобающие мысли.
Весь тот день и назавтра Морис обдумывал предлог, под каким он мог бы вновь увидеться с этой диковинной птицей. Ничего подходящего в голову не шло. Не хотелось просто так заглядывать к аспиранту, к тому же учились они в разных колледжах. Рисли, решил он, должно быть, свой человек в студенческом клубе, поэтому он надумал пойти во вторник на диспут в надежде услышать его: возможно, его будет проще понять на публичных прениях. Мориса тянуло к Рисли не в том смысле, чтобы стать его другом, просто он чувствовал, что тот может ему помочь, хотя и не имел понятия, как. Все было весьма туманно, ибо вершины по-прежнему нависали, бросая тень, над Морисом. Рисли же, который, несомненно, уже наверху, мог бы протянуть ему руку помощи.
Потерпев неудачу в студенческом клубе, Морис затаил обиду. Не нужна ему ничья помощь: он в полном порядке. Кроме того, ни один из его друзей не стал бы терпеть Рисли, а он должен держаться своих друзей. Однако обида скоро прошла, и ему больше прежнего захотелось видеть Рисли. Раз тот такой странный, разве не может и он тоже быть странным и в нарушение всех студенческих правил как-нибудь к нему наведаться? «Надо быть человечным», — а это вполне по-человечески — наведаться запросто. Поразившись своему открытию, Морис решил еще и напустить на себя этакую богемность и появиться у Рисли с остроумной речью в духе самого Рисли. «Вы выторговали больше, чем от этого получили», — сразу возникло начало. Не слишком складно, но Рисли достаточно умен и не даст ему почувствовать себя болваном, так что он выпалит это, если в голову не придет ничего лучше, а уж в остальном положится на удачу.
Ибо все это становилось похоже на авантюру. Этот человек, заявивший, что надо «болтать и болтать», непостижимо взволновал Мориса. Однажды вечером, чуть раньше десяти, он проскользнул в Тринити и ждал на главном дворе, пока не заперли ворота. Взглянув на небо, он увидел ночь. Как правило, он оставался равнодушен к прекрасному, но тут: «Что за праздничная феерия!» — подумал он. И как журчит фонтан под медленно умирающий бой курантов в час, когда по всему Кембриджу запирают ворота и двери. Повсюду были питомцы Тринити — и все громадного ума и культуры. Окружение Мориса смеялось над Тринити, но они не могли игнорировать высокомерное великолепие или отрицать превосходство этого колледжа, едва ли нуждавшееся в подтверждении. Морис пришел сюда без приглашения, робкий, пришел за помощью. Его остроумная речь поблекла в этой атмосфере, а сердце отчаянно билось. Он стеснялся и трусил.
Комнаты Рисли находились в конце короткого коридора, который не освещался, поскольку в нем не было никаких препятствий, и посетители скользили вдоль стены, пока не наталкивались на дверь. Морис натолкнулся на нее раньше, чем ожидал — страшный удар — и громко воскликнул: «О, проклятье!», а филенка еще продолжала дрожать.
— Войдите, — послышался голос.
Мориса ждало разочарование. Говоривший оказался студентом из его колледжа по имени Дарем. Рисли отсутствовал.
— Вы пришли к мистеру Рисли? А, привет, Холл!
— Привет! Где Рисли?
— Не знаю.
— Не беда. Я пойду.
— Ты возвращаешься в колледж? — спросил Дарем, не глядя на Мориса: он стоял на коленях, склонившись над грудой роликов для пианолы.
— Да, раз его нет. Я просто так зашел.
— Подожди секунду, я с тобой. Вот разбираю Патетическую симфонию.
Морис изучал взглядом комнату Рисли и пытался представить себе, как он произнес бы здесь свою речь, затем сел на стол и посмотрел на Дарема. Тот был невысокого росту — очень невысокого — и держался без претензий. Когда Морис вломился в комнату, обычно бледное лицо Дарема покрылось румянцем. В колледже он славился умом — и своей исключительностью. Почти единственное, что слышал о нем Морис, — это то, что «он слишком часто где-то пропадает», и это было подтверждено встречей в Тринити.
— Никак не найду марш, — пожаловался Дарем. — Извини.
— Ничего.
— Хочу одолжить ролики, чтобы проиграть на пианоле Фетерстонхоу.
— Я живу над ним.
— Значит, ты уже переехал в колледж, Холл?
— Да. Я уже на втором курсе.
— Ах, да, конечно. А я на третьем.
Дарем говорил безо всякой надменности, и Морис, позабыв про должное почтение к старшему, сказал:
— Но выглядишь скорее как новичок.
— Может быть, однако ощущаю себя магистром искусств.
Морис внимательно посмотрел на Дарема.
— Рисли удивительный малый, — продолжал Дарем.
Морис ничего не ответил.
— Хоть и зануда.
— Но это не мешает тебе брать у него вещи, — заметил Морис.
Дарем вскинул голову.
— А что — нельзя?
— Да шучу я, конечно, — сказал Морис и слез со стола. — Не нашел еще свой марш?
— Нет.
— Мне, знаешь, пора идти.
Морис никуда не торопился, но сердце, которое никак не переставало колотиться, подсказало ему эти слова.
— Ладно, ступай.
Морис на это вовсе не рассчитывал.
— Все-таки, что ты ищешь? — спросил он, приблизившись к Дарему.
— Марш из Патетической.
— Это мне ни о чем не говорит. Вот, значит, какой музыкальный стиль ты предпочитаешь?
— Да, а что?
— По мне так лучше хороший вальс.
— По мне тоже, — сказал Дарем и посмотрел Морису прямо в глаза. Как правило, Морис отводил взгляд, но на сей раз удержался. Дарем между тем продолжал: — Эта часть может быть вон в той стопке у окна. Надо проверить, это быстро.
Морис решительно произнес:
— Мне надо идти.
— Подожди, сейчас закончу.
Пришибленный и одинокий, Морис ушел. Звезды на небе заволокло, ночь обещала быть дождливой. Привратник отпирал калитку, когда Морис услыхал за спиной торопливые шаги.
— Нашел свой марш?
— Нет, решил лучше пойти с тобой.
Они двигались некоторое время молча, потом Морис сказал:
— Дай сюда часть роликов, я понесу.
— Не стоит, мне так спокойней.
— Давай, — грубовато приказал Морис и взял ролики из-под руки Дарема.
На сем беседа прекратилась. Достигнув в молчании своего колледжа, они прямиком пошли к Фетерстонхоу, поскольку до одиннадцати еще оставалось время, чтобы послушать музыку. Дарем сел за пианолу, Морис устроился рядом на полу.
— Не замечал за тобой раньше подобного эстетического рвения, — заметил хозяин.
— А его и нет, просто охота послушать, что там люди насочиняли.
Дарем поставил интродукцию, затем передумал и сказал, что лучше начать с 5/4.
— Почему? — спросил Морис.
— Потому что это напоминает вальс.
— Да полно тебе, играй что нравится, нечего терять время, ролики менять.
Однако на сей раз ему не удалось настоять на своем. Когда он придержал ролик рукой, Дарем предупредил:
— Пусти, порвешь, — и поставил пятидольный вальс. Морис внимательно слушал музыку. Ему, в общем, понравилось.
— Вот так и сиди, — сказал Фетерстонхоу, возясь у камина. — Тебе следует держаться подальше от аппарата.
— Наверно, ты прав… Проиграй это место еще разок, если Фетерстонхоу не против.
— Верно, давай, Дарем. Веселая вещица.
Дарем отказался наотрез. Морис понял, каким он может быть несговорчивым. Дарем сказал:
— Часть большого произведения — это не пьеса, ее не повторяют.