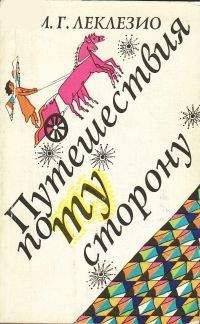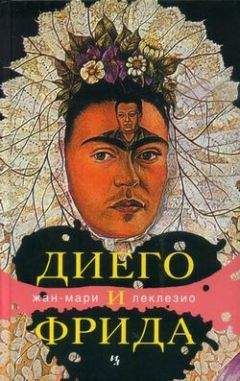Однажды Абель мимоходом метнул на меня полный злобы взгляд. «Ладно, недолго уже тебе здесь оставаться». Он сказал мне, что помолвка состоится в октябре. И добавил: «Ты у нас любишь гостиницы, так что это будет в гостинице на берегу моря. Зал уже заказан».
Я даже вещи собирать не стала, чтобы их не насторожить. Только рассовала по одежкам свои сбережения, все, что я украла и что заработала у Делаэ, — я прятала их под плинтусом в комнате, где спала. Монеты я положила в карманы, а бумажки зашила в блузку на животе. Серьги Хиляль прицепила к головной повязке изнутри.
Собравшись, я дождалась, когда вернется из магазина Зохра, и будто нечаянно уронила из окошка ванной постиранное белье. Я спущусь принесу, сказала я Зохре. Сердце у меня колотилось, и я думала: хоть бы она ни о чем не догадалась по моему голосу. Зохре после обеда хотелось спать. Она колебалась, но уж очень устала. И все-таки дала мне ключ.
— Не вздумай только шляться по улице!
Я не верила своим глазам: все оказалось легче легкого.
— Нет, тетя, я сейчас же вернусь.
Она зевнула:
— Закрой дверь хорошенько. И все потом перестираешь.
Я вышла на лестницу. В отместку я увела с собой собачку Зохры и заперла дверь на ключ, на два поворота. У Абеля был свой ключ, и я знала, что до вечера он не вернется.
Спустившись вниз, я пинком прогнала ши-тцу и выбросила ключ в мусорный бак. Еще и закопала поглубже в отбросы, чтобы никто не нашел. А потом ушла по пустым улицам, под ярким солнцем, неспешным шагом.
Первым делом, сами понимаете, я направилась на постоялый двор, к госпоже Джамиле и принцессам. Прошел уже почти год с тех пор, как полиция поймала меня. И когда я пришла к постоялом двору, ничегошеньки там не узнала. Словно землетрясение все смело. Не было ни высокой стены, ни ворот, а на месте двора, где раньше сидели торговцы, землю заасфальтировали и устроили стоянку для машин и фургонов, которые приезжали на базар. Нижние окна были заколочены или закрыты железными шторами. На втором этаже все осталось почти как прежде, только выглядел он нежилым, обветшалым, заброшенным. С фасада сыпалась штукатурка, ставни были сломаны. Под потолком галереи свили гнезда ласточки. Я стояла ошеломленная, ничего не понимая. Мне казалось что меня предали.
У въезда на стоянку сидел сторож. Высокий, сухопарый, с обветренным, как у солдата, лицом, в длинной серой рубахе, на голове кое-как накручено что-то вроде чалмы. За его спиной какие-то мальчишки старательно мыли стекла машины, макая тряпку в ведро с мыльной водой. Охранник подозрительно уставился на меня. Я не посмела его ни о чем спросить. Побоялась, что он сдаст меня в полицию. Да и что он мог знать? Сердце разрывалось при мысли, что это из-за меня не стало постоялого двора. Владелец выполнил свою угрозу: госпожу Джамилю и принцесс выслали за оскорбление нравственности, а он продал дом банкирам.
Кое-что мне рассказал Роммана, старый торговец, у которого я всегда покупала американские сигареты для Тагадирт. Госпожу Джамилю арестовали и посадили в тюрьму, а все принцессы разъехались кто куда, но он знал, что Тагадирт поселилась на другом берегу реки, в дуаре под названием Табрикет. С ней теперь жила Хурия. Я купила у него сигарет, больше в память о прежних временах. Но долго задерживаться мне было нельзя. Уж конечно, на постоялом дворе Зохра станет искать меня в первую очередь.
Я села на паром. Дело было к вечеру, лиман казался бескрайним. Начинался прилив, возвращались к берегу рыбацкие суденышки, над ними кружили чайки. Очертания города таяли в туманной дымке. Другой берег уже погрузился во тьму, и на той стороне мерцали огоньки. Впервые я почувствовала себя свободной. Ничто больше не держало меня, а впереди было будущее. Я не боялась белой улицы и птичьего крика, и никому, никогда больше не запихнуть меня в мешок и не побить. Мое детство осталось по ту сторону реки.
Дом Тагадирт я нашла с трудом. Дуар Табрикет оказался далеко от реки, на холме, за еще не достроенным шоссе, по которому проносились грузовики. Это был очень бедный квартал, одни дощатые лачуги, крытые жестью или асбестоцементной плиткой, — стены, подпертые камнями, чтобы не рухнули от ветра. Все улицы были одинаковые — неасфальтированные, прямые, окутанные клубами пыли. А от шоссе и вовсе стояло над все поселком красноватое облако.
Я шла, сворачивая в проулки наугад. Лохматая, оборванная — все собаки лаяли мне вслед. У колонки толпились женщины и ребятня, наполняя пластмассовые бидоны. Гоняли на велосипедах мальчишки, повесив на руль пару бидонов с водой или укрепив на нем вязанку хвороста. Какая-то женщина показала мне дом Тагадирт. Она проводила меня до нужной улицы, оставив свой бидон наполняться под струей воды. На углу показала мне домик, выкрашенный зеленой краской: «Здесь».
Сердце заныло: я не знала, как примут меня Тагадирт и Хурия после всего, что случилось. Может быть, и на порог не пустят, закидают камнями.
Мне даже стучаться не пришлось. Кто-то, наверно, успел их предупредить, и Хурия вышла, как раз когда я подходила. Она обняла меня крепко-крепко и все повторяла: «Лайла, Лайла». Слезы текли у нее по щекам. Она изменилась. Побледнела, даже как-то посерела, под глазами темные круги. На ней было замызганное, все в пятнах платье и пластмассовые сандалии на босу ногу — даже ремешки не застегнуты.
Из глубины двора я услышала басовитый голос Тагадирт. Там был навес из зеленой гофрированной пластмассы, какие ставят в садах, а под ним — жаровня. Вышла Тагадирт, одетая тоже в зеленое. Она не очень изменилась. Морщинки в уголках глаз и у рта, которые мне так нравились, стали чуть глубже. Я заметила, что она слегка прихрамывает. Одна нога у нее была забинтована.
Мы обнялись. Я была счастлива, что снова вижу ее, вдыхаю ее запах. Мне казалось, будто я нашла родных, семью, с которой не виделась много-много лет. Тагадирт приготовила свой любимый gun-powder[1] с мятой, которую она выращивала в горшках возле своей кухни. Столько вопросов вертелось у меня на языке, что я не знала, с чего начать. Хурия рассказала про госпожу Джамилю. Та недолго пробыла в тюрьме, а потом уехала из города. Может быть, в Мелилью или во Францию. Принцессы разлетелись кто куда. Зубейда и Фатима вышли замуж, Селима жила со своим учителем географии, а Айша занялась торговлей. Постоялый двор закрыли, он долго пустовал, а потом стену снесли. Я твердила, что я во всем виновата, меня арестовали, все из-за этого, а добрая душа Тагадирт утешала: «Рано или поздно это должно было случиться. Госпожа Джамиля уже давно не платила аренду, и торговцы тоже. Это был не дом, а табор, поэтому ничего удивительного нет». Я успокоилась, но все же не могла поверить, что не злоба Зохры всему причиной. Зохра была моим демоном.
— Что с тобой? — спросила я Тагадирт, показав на ее ногу.
Она пожала плечами; казалось, ей неприятно, что я об этом спрашиваю.
— Ничего страшного, паук укусил, наверно.
Но позже Хурия сказала мне правду: Тагади заболела диабетом. Врач в больнице осмотрел ногу и сказал Хурии с глазу на глаз: «Она очень больна, у нее гангрена. Ногу придется отнять». Но Хурия ничего не сказала подруге. «Она так и думает, что это от укуса паука, делает припарки из трав и говорит, что ей лучше, уже совсем не болит, но не болит-то потому, что нога мертвеет». Это бы ужасно, но, с другой стороны, может, и лучше, что Тагадирт не говорили правды, поскольку она была обречена.
Жилось в дуаре нелегко, особенно мне — ведь я никогда по-настоящему не знала нужды. Даже у Зохры я все-таки ела каждый день, а в доме были вода и свет. Здесь, в Табрикете, мы всегда голодали, к тому же не хватало самых простых вещей: например, не каждый день можно было помыться, не всегда находился хворост, чтобы вскипятить воду для чая. Хворостом торговали дети, они приносили его издалека, с холмов по другую сторону шоссе. Маленькие девочки в лохмотьях таскали на спине, придерживая за веревку, вязанки, которые были больше их самих.
А ведь наш дом считался далеко не самым бедным. Тагадирт им гордилась, потому что его построил ее сын Иса, один, своими руками, из блоков, которые сам приносил по одному. Иса был строителем, он работал в Германии. В комнате, служившей столовой, Тагадирт повесила его фотографию — большую, чуть подпорченную «снегом». Сын был похож на нее, особенно глазами, слегка раскосыми, как у китайца.
Зеленый цвет для дома выбрала Тагадирт. Это был ее любимый цвет. Она выкрасила в зеленый цветочные горшки, в которых выращивала мяту и шалфей, и стулья в зеленый, и низкий столик, отыскала даже английский чайник цвета бирюзы с плетеной ручкой и круглой, как горошина, шишечкой на крышке.
Места в доме хватало для всех. Во дворе под навесом размещалась кухня, у Тагадирт была своя комната, а в другой спали мы с Хурией, прямо на полу, на подушках. Была даже комната для Исы, с его кроватью и его шкафом, всегда готовая на тот случай, если он вдруг вернется без предупреждения. Рядом с кухней Тагадирт соорудила из досок что-то вроде ванной, там можно было помыться в пластмассовом тазу, поливая на себя из цинкового ведра, а потом в той же воде стирали белье. Мы с Хурией ходили за водой к колонке и по очереди обливали друг друга, визжа от холода. В дуаре не было бани: слишком бедные люди здесь жили, да и воды не хватало. С ванной Тагадирт и цинковым ведром мы жили почитай что в роскоши.