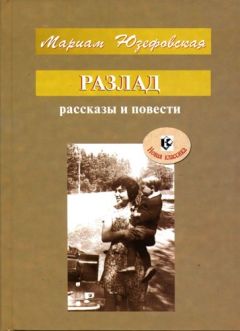– Нинуте, ты куда? Не уходи.
Увидела в руке чемоданчик, от сердца отлегло – значит, к отцу на хутор ездил. По голосу сразу поняла, что чуть выпивший, но виду не подала. Проскользнула в дверь, бросив на ходу:
– Ты ложись, ложись. Я скоро. – И хоть обрадовалась, что приехал, но будто кто-то шепнул ей на ухо: «Не вовремя нагрянул. Не вовремя».
Разбудила дежурную, та спросонья вначале и разобрать ничего не могла, потом начала причитать:
– Поне виршининке, это брат к ней приехал! Не трогайте вы их.
– Ты эти штуки брось, – взвилась Быстрова, – уснула на рабочем месте, а теперь и ее, и себя выгораживаешь. Не получится. Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь.
«А вдруг и вправду брат?» – подумала про себя и тихонько постучалась в дверь. Деликатно так, косточками пальцев. «Если брат – откроют». За дверью притихли и свет выключили. Тут уж Быстрова стала вовсю тарабанить. «Откройте немедленно!» Но там замерли. Ни шороха, ни звука. Со злостью накинулась на дежурную:
– Брат, говоришь? То-то они на все замки заперлись.
– Что статуей застыла? Помогай.
А та хоть бы глазом моргнула. Губы поджала, молчит. В ночной тишине почудилось, будто шпингалет оконный щелкнул. «Того и гляди – через окно убежит, – подумала Быстрова. – Чего медлить – ломать – и никаких разговоров». Стала стамеской и молотком орудовать. Впопыхах даже палец себе поранила. В этой горячке и не заметила, как Пранас подошел.
– Ты что, Нинуте? Зачем?
Увидел, что из пальца кровь каплет, начал своим платком перевязывать. Но она руку выдернула в запале и объяснять ничего не стала, только одно твердит:
– Ломай дверь!
Ну что ж, дурное дело-то – нехитрое, да еще для умелых рук. Два раза стамеской поддел, молотком пристукнул – дверь нараспашку. Парень, конечно, бежать. И не разглядела его как следует. Только заметила, что в военной форме, солдат вроде бы. И Данута следом за ним бросилась, в руках фуражка – и на своей тарабарщине кричит: «Чапка, чапка», – шапка, мол. Быстрова ее схватила. Хотела фуражку военную отобрать, что ни говори – вещественное доказательство, но не удалось. Исхитрилась Данута, через плечо перекинула, а парень и подхватил на лету.
– Тебе это все равно с рук не сойдет, – вскипела Быстрова.
– Ой, до смерти испугали, – засмеялась зло Данута.
– Смеешься? Смейся, смейся, а у меня свидетели есть.
– Сейчас протокол напишем. А тогда уж поглядим, как ты смеяться будешь. Может, и слезами умоешься.
Порылась у ней в тумбочке, нашла бумагу, ручку – села писать. Но затмение какое-то нашло – двух слов связать не может. Одна только мысль в голове долбит, как дятел: «Хорошо, что левую поранила, а то бы и писать не смогла». Сидит, мучается, а тут Пранасова рука на лист легла. Посмотрела на него – бледный, как полотно, в лице переменился, видно, весь хмель разом вышел.
– Не надо, Нинуте. Пожалей ты ее. Сирота ведь. Пожалей, – и лист к себе потихоньку тянет.
А тут еще дежурная в огонь масла подливает: «Бролис, бролис» (брат, мол). Быстрова молчала. И не поймешь: то ли колеблется, то ли твердо решила не отступать.
– Езус Мария! Да женщина ты или нет? – вспылил Пранас. – Ради такого дня, ради ее родителей, пожалей!
Зря он вспомнил про родителей. Зря. Как только услышала, будто ножом кольнуло:
– Значит – ваших жалей, а к нашим нет жалости?
– Сколько здесь полегло наших! У вас за них душа не болит. А вдовы? А сироты? Ишь ты, жалельщики какие! На чужой кровушке жалость эта ваша замешена. Нет уж! Я таких бандитских гаденышей давила и давить буду.
Он руку от листа отнял, усмехнулся. Да так недобро, что у нее прямо все внутри похолодело. И глаза сразу стали такие жестокие, узкие, будто из бойницы в нее прицеливается:
– А меня бы тоже не пожалела?
Теперь-то язык себе была готова откусить, но прошлого не воротишь:
– Нашкодил – не пожалела бы, – сказала, как отрезала.
– Ну-ну. Значит, недаром у вас говорят: дружба дружбой, а служба службой. Слушай, а что про тебя болтают всякое – это правда?
Она сразу поняла, о чем речь завел, глаза опустила, взгляда его, выматывающего душу, не выдержала:
– Не знаю, о чем это ты. Болтать-то все можно.
– Выходит, правда, – задумчиво, врастяжку сказал Пранас. – А я не верил. – И больше ни слова не проронил. Повернулся и ушел.
Думала, отойдет, может, еще все наладится. Но с той ночи – будто что-то поломалось между ними. Стал ее избегать, а если встретит – в сторону отворачивается. Она уж и так и эдак. И главное – не поймет: «За что? Что ему-то сделала? Неужели так за Данку переживает? Так ведь все выяснилось. Даже не наказали». Решила вызвать на разговор. Начала по закоулкам разным ловить, оправдываться, плакать. А он свое твердит: «Занят я, поне виршининке, занят». Однажды улучила минуту, зазвала к себе в кабинет, повисла, как прежде, у него на шее. А он – вроде истукана, ни рукой, ни ногой не пошевельнет.
– Пранай, прости меня, Пранай! Сгоряча ведь! – стала в глаза ему заглядывать, ластиться. – Прости!
И показалось, будто оттаивать начал. Тут уж взахлеб принялась объясняться, оправдываться:
– Я ведь тоже человек. Объяснили бы по-хорошему, что брат, мол, приехал. А на побывку или в самоволку убежал, мне до этого дела нет. Что я ему – воинский начальник? Чтоб документы проверять? Чего испугались? Разве я не понимаю, что значит родная кровь?
– А чужая? – тихо спросил Пранас. И почудилось ей в этой тихости, что миновала гроза, прошла стороной.
– Что нам чужие, Пранай, – прошептала она, еще теснее прижимаясь к нему, – нам теперь о своей жизни надо думать. А чужой человек – он и есть чужой.
– Чего ходишь за мной? – закричал вдруг Пранас и сбросил с шеи ее руки. – Чего надо? Надсмеялся я над тобой! Понимаешь! Не было таких, как ты, у меня, вот и захотелось узнать, такая же ты баба, как другие? Оказалось – такая же, только те добрые были, а ты – пес цепной.
Ох и затосковала в ту пору Быстрова. Даже выпивать начала тайком. Выпьет – и начинает вроде бы петь, а потом вдруг завоет. Да так страшно, как бабы в деревнях по покойнику. Даже муж как-то постучался в стенку и говорит:
– Ефимовна, а Ефимовна! Может, горе какое? Так скажи! Все-таки не чужие.
Как вскинулась она тогда, как закричит на него дурным голосом:
– Ненавижу! Сдох бы ты поскорее, что ли, освободил бы меня!
Он затих за перегородкой. Затаился и молчит. А потом, слышит, плакать начал. Плачет и все шепчет:
– За что?
И слышно ведь все до шороха: как вздыхал, как ворочался, как во сне всхлипывал и кашлял. «И правда, – думала она, трезвея. – Его-то за что? Господи, мне теперь не то что свобода, мне теперь и сама жизнь ни к чему».
А вскоре смирилась. Только однажды был у нее случай. Зашла в кабинет, а там во всем Пранасовы руки видны. Еще и стружкой пахнуло. И будто зверь в ней проснулся. Стакан с графином на пол смела. Начала все крушить, ломать. Главное, решетку на окне хотела с корнем вырвать, чтоб и следа не осталось. «Ненавижу!» – корчилась и билась в ней то ли ненависть, то ли тоска. Сама толком не могла понять. Но хотелось кричать криком. «За что меня? Разве я проклятая? За что?» Сдержалась. Заткнула рот рукой. «Не приведи бог, вдруг кто услышит». Потом образумилась: «Видно, верно говорят – ворон ворону глаз не выклюет. Ведь правда, кто я им?» И засобиралась было на Рязанщину. Но после задумалась: «Куда ехать? Родню там всю растеряла, кто умер, кто уехал. Место, почитай, незнакомое. Только что Родиной зовется. Дак ведь это так – название одно. Видно, уж отрезанный я ломоть для всех». Так и осталась.
Вот уж скоро год прошел. С той поры много воды утекло: Пранас уволился и куда-то сгинул, мужа схоронила. И осталась одна, как перст. Раз в дикой тоске руки на себя наложить хотела, но духу не хватило. После свыклась: «В жизни и не такое бывает. Вон, мужья жен бросают, не то что полюбовниц. Да и перестарок я для него, ему бы молодуху какую под стать». Только иной раз вспомнит бабкино присловье: «Прожитое – что пролитое – не воротишь», – и усмехнется: «Верно, ой как верно».
Минск,1981 г.
У нас в роду все мужчины меченые. У всех левая бровь шрамом рассечена. Прадеду, рассказывают, хозяин-немец сапожной колодкой метку поставил. Деда и отца на войне метили. Только одного в 14-м году, а другого в 41-м. А у меня совсем особый случай.
Я девчонкой родилась и очень тосковала из-за этого. Да и дед с отцом сокрушались: кончался наш род, умирала фамилия. Не рождались в семье мужики, а которые были – те в начале войны погибли. Один отец с фронта пришел. На меня надеялись, имя приготовили – наше, родовое. Из поколения в поколение передавалось – Александр. Но здесь промашка получилась. Родилась я девчонкой. Что ж делать? Имя оставили, а остального не поправишь
Но вела я себя – как заправский пацан. Ходила круглый год в шароварах, зимой носила отцовскую офицерскую шапку – отец был у меня кадровым военным. И мальчишкам нашим, гарнизонным, ни в чем не уступала. Ножички, маялка, пристенок – во все игры с ними играла. И даже докуривала втихую отцовские папиросы «Беломор». Стригли меня коротко, стриг наш же гарнизонный парикмахер, прическа была не то бокс, не то полька. Да и фамилия была ни мужская, ни женская, а так, серединка на половинку – Мейн. Из-за этого, видно, в небесной канцелярии и произошла промашка. Занесли меня сослепу в мужской пол, вот судьба и решила пометить. Да такой урок дала – на всю жизнь запомнился.