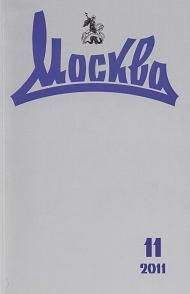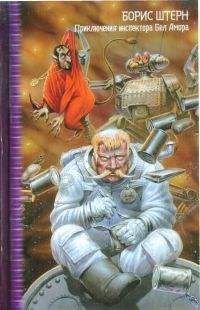Сволочь!
— Но вы зайдите расписаться.
— Как это расписаться?
— Ну, что вы по собственной воле отказались от прививки.
Я был не в силах выговорить ни слова.
— Если сегодня не сможете, заходите второго числа. Тут будет дежурство.
— С наступающим! — прошипел я.
Получается, что для официальных структур я уже мертв. От меня им нужно меньше, чем от паршивой овцы. Всего лишь несколько букв — ровно столько, сколько поместят потом на надгробном камне. Только там еще и циферки добавят. По крайней мере, почему-то мстительно подумал я, в этом омерзительном 2002 году я не умру. Даже если прямо сейчас лопнет мой шрам и загорится огнем, до следующего года я дотяну.
В этом месте я нырнул с поверхности нахлынувшего страха в глубину, где рассчитывал, как всегда, встретиться с собою же, криво усмехающимся всем этим умственным спекуляциям и кривляниям. И никого не встретил. Оказывается, я весь, на всю свою глубину, состоял из мутного томления, и даже кривой усмешки не имел в противовес ему.
Вот тут-то мне стало страшно по-настоящему. Так страшно, что я даже закричал. Крик я перехватил, перекусил, так что его тонкие кости заскрипели на стиснутых зубах. Не хватало еще Ленку испугать!
— С Новым годом, с новым счастьем!
На мутной волне тяжелого опьянения я проскочил из 31-го числа сразу в 3-е, и главная заноза сама собой вышла из раны. Правда, иногда накатывало, особенно когда сознание ненароком натыкалось на какое-нибудь «собачье» воспоминание. Как выяснилось, дороги, по которым брели мои мысли, были просто усыпаны ими. И если вдруг мне начинало казаться, что нога чуть ниже левого колена чешется, я вздрагивал и замирал, и менялся в лице. Находившийся рядом человек озабоченно спрашивал, что со мной?
Но день ото дня реакция притуплялась, накаты страха становились не столь цепенящи. Но, с другой стороны, я никогда не посмел бы сказать себе, что рана зажила полностью, бесповоротно. Да, она о себе почти не напоминала, но и забыть ее было нельзя.
И вот восьмого мая я почувствовал канун полного освобождения и сделался окончательно спокоен. И говорил себе это, уже не боясь сглазить. Воистину, наступал день победы!
Девятого мая я проснулся от стука. Стук был гулкий, от него сотрясался весь дом. И почему-то от него же одновременно и страшно тошнило, хотя при этом чувствовалось, что нечем. Так что вставать нет смысла. Не из-за этого же стука! Стук был ритмичный, но с регулярным перебоем: три удара — пауза, три удара — пауза.
Да что же это такое?!
Я открыл глаза. Ничего не увидел и еще меньше понял. Было темно. Я не ослеп, просто ночь. Видимо, самая середина. И тут я бросил размышлять о времени. Я понял, откуда стук. Это грохотало мое собственное сердце.
Три удара — пауза, три удара — пауза. Я нащупал пальцами правой руки левое запястье. Слух меня не обманул. Четвертый удар куда-то пропадал. Вместо него — мгновенное ощущение пустоты в груди. Пустоты и холода.
Сердце меня никогда прежде не подводило. Давление с перепоя подскакивало, но чтобы перебои… Перебои с перепоя. Собственно, и сейчас был именно он, перепой. Трехдневный загул, солидно начатый шестого мая в ресторанчике над Москвой-рекой, с осетриной и Сегенем, и законченный в отремонтированной квартире в ночь с восьмого на девятое четырнадцатой в тот день бутылкой пива «Козел». Убираем кавычки — именно так надо назвать существо с надорванным сердцем, скрючившееся под пропотевшей простыней, сто раз дававшее себе слово не пить долее одного дня.
Да, начиналось все очень хорошо.
Похлопывали легкие шторы, слева внизу лежала чуть взволнованная река. Именно лежала, потому что движение воды было совершенно неощутимо. На той стороне высилось колесо, еще более неподвижное, чем река.
Сашуля все заказал умело — и дешево, и много. Я до сих пор робею перед официантами, хотя умом понимаю, что они не начальство, а прислуга.
— Пить что будем? — гнул спину халдей.
— Водку.
— Сколько?
— Принесите достаточно. А то в прошлый раз не хватило.
Официант кивнул и даже улыбнулся, понимая, что с ним шутят. Исчез, вернулся, и вот мы уже держим на уровне глаз по хрустальной рюмке. Я говорю Сегеню, что он не только в ресторане ведет себя как завсегдатай, но и вообще в жизни. Саша пропускает комплимент мимо ушей. Мы выпиваем. Раз, два, три, шесть…
Саша кратко рассказал о своей поездке на мою малую родину — в Беларусь. Пригласил его туда республиканский прокурор. Оказалось, душевнейший человек. А от прокурора Сегень поехал на Псковщину, к священнику одному, отцу Сергию. Он знаменит был тем, что в месте своего прежнего служения, на Кубани, в одиночку разогнал подвернувшуюся толпу то ли нудистов, то ли иеговистов. Разгонял не только словом. От группы травмированных поступила в органы жалоба по всей форме. Отец-победитель был наказан географически.
— Не думаю, что согласился бы отдать свое духовное воспитание в такие руки, — сказал я, когда было показано, какие у отца Сергия кулаки.
Саша хмыкнул, но было непонятно, одобрительно или снисходительно.
После ресторана мы вернулись в Союз писателей, к Сегеню на работу, — благо рядом. Побродив по кабинетам, где нам, таким веселым и разговорчивым, опять-таки никто не был особенно рад, мы в конце концов осели у секретаря Лопусова. Гостеприимство этого человека поистине не знает границ. Тут же явились бутылочка коньяка и засахаренная клюква. Под перезвон новейших историй из жизни сложнейшего организма Союза писателей мы выпили по две рюмки.
Через некоторое время мы уже направлялись в сторону «Московского вестника». Только в этом журнале — настаивал я — всегда рады гостям, только там можно достойно продолжить начатое. Дорога нас несколько освежила, и, подойдя к дверям заветного кабинета, мы были полны самых возвышенных предвкушений. Там внутри стояла тишина. Свет не горел.
Снова мы обнаружили себя уже на улице. Было уже темно — значит, очень поздно. Май. Заканчивался легкий ливень ранней ночи. Перекресток бесшумно сиял, одухотворенная тьма уходила во все четыре стороны.
Вверх вообще смотреть было страшно — вдруг затянет? Прекратить приключение и расстаться в такой момент невозможно.
Добрались мы до какого-то ночного магазина. Купили водки и пару нарезок. И спустя неизвестно какое время и не помню каким образом перенеслись в Союз писателей. Раз уж я не строю композицию, то и не обязан объяснять, как это произошло. Свет зажигать не стали, вполне хватало света лун — по огромному, изъеденному серебряной ржавчиной круглому фонарю в каждом окне. Колбаса отсвечивала жировыми икринками, водка лоснилась, наливаясь в граненые рюмки. Над этим мистическим столом состоялась некая беседа, одним неясным корнем связанная с прежней нашей трезвой жизнью, другим — с путаным содержанием водочных разговоров этого дня. Главным отличительным качеством загробного этого застолья была поразительная откровенность высказываемых мнений.
Не помню почему, но я вдруг счел себя задетым и обманутым и захотел посчитаться немедленно.
— Твой последний роман дрянь. — Только друг, побуждаемый истинной дружбой, мог сказать другу такое.
— Почему ты ненавидишь своих героев? — услышал я в ответ.
Я не знал, что дело обстоит так, и с этой точки зрения свои сочинения не оценивал. Нет, если присмотреться… Но присматриваться именно сейчас мне не хотелось. Лучше атаковать, чем комплексовать.
— Ты там все время пытаешься шутить, но не смешно — прямо «Аншлаг» Петросяныч какой-то.
— А поскольку ты их не любишь, они у тебя получаются холоднокровные, как русалки, им невозможно сопереживать. Они гибнут как мокрицы.
А если он прав? Тем хуже для него!
— Хочешь сказать, что веришь в людей и вообще веришь, а я такой гад, что не верю? Но все, что связано у тебя с верой, выглядит искусственно. Шито белыми нитками. Крестный ход в конце отклеивается. После всех наворотов с водкой и девками все умилительно христосуются. И я почему-то должен верить, что в жизни так именно и бывает.
— Да ты вообще после «Пира» ничего человеческого не написал, там было какое-то пыхтение души, а после — одни приемчики, ужимки. Мертвечина!
— Тебе тоже далековато сейчас до «Похоронного марша».
И тут я посмотрел Саше в глаза и понял, что нанес ему ужасное оскорбление, которое непонятно как и чем смывать. Поняв, что оскорбил, я понял, что оскорблен. Я его «Похоронным маршем», он меня «Пиром». Упал опрокинутый стул.
— Вставай, — приказал Сегень.
— Зачем?
— Я вызываю тебя на бой.
На бой так на бой. Драчун из меня дрянной, но тут уж не отсидишься.
Мы встали в позы, которые, наверно, считали боксерскими, и начали наступать-отступать, как Ливанов с Соломиным в известном фильме. Прозаик Сегень любил подраться, однажды я видел, как он двумя ударами кулака успокоил шайку дебилов-акселератов, горлопанивших в поезде метро. Но я повыше ростом и руки у меня подлиннее, поэтому ситуация на лунном ринге была все больше ничейной. Мы боксировали, пыхтя алкоголем. Остатками сознания, плававшими на поверхности алкогольного омута, я понимал, что происходящее — как-то неталантливо. Но сил придумать, как все это прекратить нормальным образом, уже не хватало.