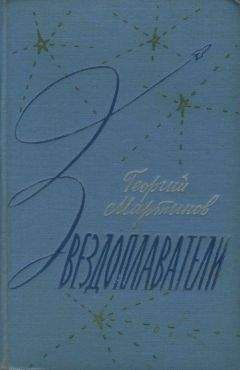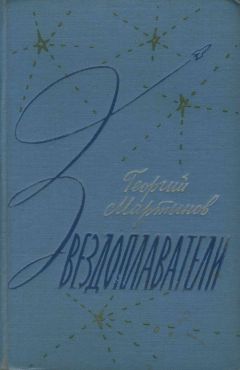Удивившись этому заявлению, мы сказали: “Во-первых, он стрелял в
Дантеса, разве это себе не в убыток? А во-вторых, у вас в психушке что – не читают газет? Уже полгода, как вышел указ, чтоб у работающего пенсионера пенсию не отбирали. Это раньше старикам и увечным не позволяли заработать на лишний кусок хлеба. Такая хамская политика была у партии с правительством.
Теперь же, когда правительство осталось без партии, песню оно запело совсем другую, в духе гуманизма: хочешь – получай только пенсию, а хочешь – и зарплату”.
Наше сообщение главврача очень обрадовало. Бурно поаплодировав, он сказал: “Ура этому указу! Он вышел благодаря моим письмам еще в партию. В них я неопровержимо доказывал: поощрять пенсионеров к работе – экономически выгодно. Если старик, писал я, будет гулять с тросточкой и утруждать себя только рыбалкой, то проживет сто лет, непрерывно истощая бюджет. Государство будет регулярно платить ему только за то, что он гуляет с тросточкой и раз в полгода вытаскивает из реки ерша. Если же этот старик позарится на дополнительные деньги и, встав у станка, начнет как проклятый перевыполнять социалистические обязательства, то хорошо, если протянет до следующей пятилетки… Раз такой указ вышел, значит, правительство наконец-то поняло: лучше платить больше пять лет, чем меньше, но полвека”.
“Думаем, правительство ориентировалось не столько на экономическую выгоду, сколько на политическую,- возразили мы.- В том, что все пенсионеры сейчас ринулись работать,- очень важный пропагандистский аспект. Запад теперь прямо локти кусает, видя, что наши старики шустрее ихних, а они всю дорогу своими хвалились: не забурели, мол, в немочах, по всем странам туристами разъезжают, полны юной любознательности. Теперь же весь мир раскусил ихнюю брехню: хождение в шортах по Колизею или давно уже не паханному ленивыми французами Елисейскому полю не идет ни в какое сравнение с обрабатыванием двухпудовой чугунной болванки в задымленном цехе. Вы тут, в психушке, газет не читаете и не знаете: весь мир восхищается нашими стариками, даже ястребы холодной войны говорят: во каких бодрых дедуль воспитал социализм, наших старых пердунов стыдно с ними и сравнивать…”
Главврач согласился, что пропагандистский аспект указа имеет огромное значение, после чего разговор вернулся к Пушкину.
Вот что мы услышали от главврача. Наши проблемы он понимает и освободить Пушкина побыстрее был бы рад. Но клятва Гиппократа и
Конституция страны проживания не позволяют ему сделать это сразу, а лишь сильно Пушкина подлечив.
“Псих перестает быть психом лишь после лечения и выздоровления, сказал афоризмом главврач.- Другого пути нет”.
“Другой путь есть,- возразил умный Вяземский.- Надо просто признать, что Пушкин здоров и попал к вам по недоразумению”.
Главврач протестующе замахал руками.
“Вы даже не представляете, какая сложная создалась юридическая ситуация”,- сказал он.
Он нам эту ситуацию разъяснил. Пушкин стрелял в Дантеса – это неопровержимый факт. Предположения на этот счет следующие.
Первое: Пушкин стрелял, будучи психически здоровым. Тогда у него обязательно должен быть мотив стрельбы, у здоровых он всегда есть. Например, Дантес задержал ему зарплату или отбил жену.
Если мотив есть, то все в порядке: налицо преступление. Пушкин должен получить срок. Но если человек стреляет в человека без мотива, если на вопрос, почему он это сделал, удивленно пожимает плечами: мол, сам не знаю,- то, значит, перед нами не преступник, а душевнобольной, его надо лечить…
“Для начала я вколю ему отвар репейника в нижний край мозжечка, сказал главврач.- По моим расчетам, это должно вызвать отвращение к оружию”.
Мы попросили повременить.
“Можно и повременить,- согласился главврач.- Для меня это раз плюнуть. Я, понимаете, всю жизнь временю. В моей голове рождались замечательные, подчас гениальные задумки, но я временил. Я временил и временил. Сколько себя помню, я все временю”.
И он стал рассказывать о прожитой жизни, в которой ему то и дело приходилось делать великие открытия, иногда по два-три в год. Он разрабатывал революционные методики лечения как человека в целом, так и отдельных его членов и органов, а однажды создал замечательный яд: если им ночью обрызгать с самолета вражескую дивизию, то к утру она помрет… Однако все это осталось втуне…
“Вы знаете слово втуне? – спросил нас главврач.- Мне одно его звучание переворачивает душу”.
Он знал слово втуне, а мы до этого не знали. Он вообще оказался интересным человеком.
Так получилось, что к нему мы стали ходить почти каждый день, а к Пушкину только раз в неделю. К пациентам чаще не пускали.
Время шло, и главврач стал уже говорить нам так: найдите мотив стреляния – и Пушкин тут же получит свободу. Он так долго уже отсидел в психушке, что суд этим удовлетворится.
Но Пушкин продолжал утверждать: мотива не было. Мы просили его: вдумайся, напряги память, может, какой-нибудь мотив все ж сыщется. Но он не хотел ни вдумываться, ни напрягаться.
Мы так часто заводили этот разговор, что уже одно слово мотив стало приводить его в ярость. Он кричал: “Не было его! Никакого!”
“Он не дает себе труда напрячься,- жаловались мы главврачу.- Он сразу кричит”.
Однажды мы не застали главврача в кабинете, знакомая медсестра повела нас длинным коридором и распахнула дверь одной из палат.
Мы вошли.
Главврач стоял босиком на одной из коек, в полосатой пижаме, как у всех больных. Нам приходилось слышать истории о том, как врачи психушек время от времени сами сходят с ума, и мы подумали, что главврача постигла именно такая участь, но он, увидев нас, громко прокричал: “Это не то, что вы подумали!” – после чего вернулся к речи, прерванной нашим появлением.
Присев на койки рядом с психами, мы стали слушать.
“Итак,- говорил главврач,- я только что буквально на пальцах доказал, что все четыре мировые религии – чушь собачья. И это прекрасно, ибо свидетельствует о том, что человечество – вполне нормальное дитя. Ведь чем дитя прекрасно? Именно говорением благо- и неблагоглупостей. Дитя, излагающее какую-нибудь эвклидову или неэвклидову теорему, лично мне было бы противно. Я б ему пряника не дал. Меня б тянуло дать ему пинка. Возможно, я б не сумел сдержаться…”
Речь главврача прервал приход медсестры, объявившей ужин. Психи бросились в столовую, главврач же, громко шлепая босыми ногами по бетонному полу, повел нас к себе.
Там он объяснил ситуацию. Ему пришлось уйти из своей квартиры от жены. Двадцать лет он на нее насмотреться не мог, а буквально на днях понял, что перед ним большая сволочь. Он понял это, услышав от жены следующую просьбу: “Милый, купи мине дачу”. Она была из простонародья, поэтому говорила “мине”. Но главврача “мине” поразило не простонародностью, к которой он за двадцать лет привык, а тем, что дачу она просила одной себе, а не им обоим.
Услышав это: “Купи мине дачу” вместо: “Купи дачу нам”, он понял
– она хочет его отравить. Сначала приобрести на свое имя дачу, а дальше все проще простого: ядов в их квартире было хоть залейся, причем оригинальнейших, в свое время он их наизобретал предостаточно, было у него в молодости такое хобби.
Словом, жена о своих злодейских планах проговорилась, но главврач и виду, что понял, не подал. Искусно изобразив голосом ленцу и равнодушие, он ответил: “Как-нибудь провернем это дело”.
“А чего тянуть? – с сильным раздражением спросила жена, чем окончательно выдала свои намерения.- Денег у тебя полно. Чего им лежать втуне?”
Она хоть и была из простонародья, но окончила в свое время вечерний университет марксизма-ленинизма, где и научилась слову втуне, любимому у марксистов-ленинцев. Главврач же обучался только в медицинском институте и поэтому слово втуне услышал впервые. Оно его до крайности обеспокоило, и он подумал: “Она пронюхала, где я деньги держу, ей и без дачи выгодно меня угробить. Надо действовать без промедления”.
Деньги лежали у него в черепе, который он, еще будучи студентом, украл на кафедре анатомии. Этот череп состоял из костей настолько прочных, что когда его хозяину еще в гражданскую войну стрельнули из винтовки Мосина прямо в лоб, то пуля в нем прочно застряла.
Сам-то хозяин, конечно, рухнул как подкошенный, и враги, естественно, подумали, что он убит, а у него было только сотрясение мозга. Через пятнадцать минут он встал и пошел к своим. Однако сотрясение мозга не прошло бесследно: его речь стала французской. Красноармейцы, давно и хорошо с ним зна комые, лупили его пенделями, говоря: “Ты че, Вася?” А он им: “О,
Пари, тру-ля-ля!”
Его отправили в обоз, где он до конца войны выучил три русских слова: “раз”, “два” и “три”. “Четыре” ему не давалось до конца жизни. Остаток ее он проработал вахтером в мединституте, развлекая студентов коротким стишком о французской столице: “О,