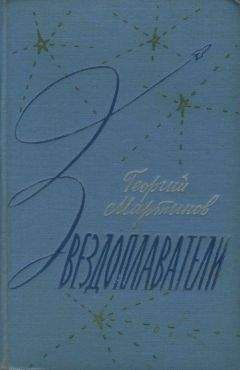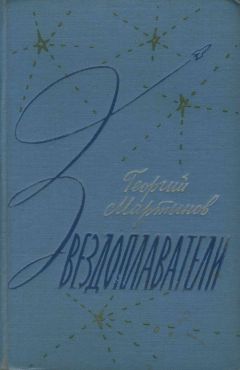Главврач давно чувствовал нарастающее недовольство жены и поэтому, услышав от нее слово “втуне”, похолодел, так как понял, что дни его сочтены. Действовать надо было решительно. Сказав:
“Плевал я на твое “втуне””,- он показал ей кукиш. “Меня не лелеешь – горько пожалеешь”,- отреагировала жена. Чувствовалось, что внезапная рифма не случайна…
Промедление грозило смертью. Главврач бросился к черепу. Но денег в нем не оказалось. “О хищница!” – крикнул он жене и убежал из квартиры с пустым черепом под мышкой.
Теперь он жил в больнице. День проводил в кабинете, где делал больным инъекции в различные участки мозга, ночевать же шел в палату страдающих манией величия, так как любил публику поинтеллигентней. С черепом он не расставался: днем держал на письменном столе, ночью – под одеялом. Больные думали, что он – его собственный.
Мы этот череп видели. По просьбе главврача принесли наждак, и теперь пуля сверкала, как бриллиант во лбу Шивы.
В следующий раз мы навестили главврача очень поздно, думали, придется его будить, но он не спал, он сидел в кабинете в такой удрученной позе, что, будь среди нас женщина, у нее бы на глаза навернулись слезы.
“Что случилось?” – спросили мы.
У него осложнились отношения с коллективом. Он совершил ошибку.
Первоначальная мысль у него была правильная. Перед ним стоял вопрос: кем быть в палате? Сначала он хотел руководствоваться народной мудростью: с волками жить – по-волчьи выть, и прикинуться каким-нибудь богом. Но престижные вакансии, вроде
Зевса или Озириса, были уже заняты, а становиться богом-шестеркой, вроде Зефира или Морфея, ему не позволяло самоуважение. Поэтому он принял оригинальное решение: стать не богом, а, наоборот, атеистом, причем не простым, а воинственным, вооруженным до зубов новейшими взглядами на природу религии…
Он думал, им будет интересно с ним спорить, но ошибся. Первая же произнесенная им речь, конец которой нам посчастливилось слышать, вызвала неудовольствие, объединившее богов палаты.
После ужина, когда мы уже ушли, они загнали главврача в угол и, косясь на череп, который он держал впереди себя, как щит, сказали: “Мужик ты, в общем, неплохой, но находиться в одной палате с атеистом нам, сам понимаешь, несовместно. Плюрализм – вещь прекрасная, но в пределах больницы, а не одной палаты…”
Но уходить в другую главврачу не хотелось. Ему во что бы то ни стало надо было жить среди интеллигенции.
“Черт бы ее побрал! – сказал он нам.- Но я придумал, как исправить положение. К счастью, так называемых безвыходных положений для меня нет. Вам выпало счастье убедиться, что они не для меня”.
Сунув под мышку череп, он повел нас в палату, из которой был вежливо изгнан.
Его приход теми, кто еще не спал, был встречен недоброжелательно. Осуждающие взгляды, как бы говорящие: “Мы же просили вас больше не приходить”, вперились в него. Нас же вообще никто не заметил: как и положено языческим богам, людей они презирали.
Мы присели на краешки чужих коек, главврач, не смутившись приемом, взобрался прямо в обуви на свою.
“Господа!” – начал он свою речь, видимо, заранее заготовленную…
От него мы уже знали, что обращением “Господа!” здесь пользовались даже в те годы, когда вне больницы оно было запрещено. Главврач направил тогда в обком партии письмо с просьбой для этой палаты сделать исключение. “Они мнят себя богами,- писал он.- Для успешного лечения мы должны оберегать их от стрессов и не раздражать неуважением к их ложному статусу, который в период болезни они считают реальным…”
И первый секретарь обкома наложил на письмо резолюцию: “Называть психов господами разрешаю…”
Стоя теперь на койке двумя ботинками и сказав “Господа!”, главврач продолжил так:
“Переживая нашу с вами размолвку, я провел в кабинете бессонную ночь. Лишь под утро мне удалось смежить веки, но едва я это сделал, как предо мной вдруг возник Бог, спать в присутствии которого я не счел возможным. Быть атеистом – совсем не значит быть бестактным. Я могу отрицать Бога, но спать в его присутствии – никогда. “Чем обязан?” – спросил я. “Надо поговорить”,- ответил Бог. “Может, потом? – попросил я. – У меня был тяжелый день”. “Хамло,- сказал Бог.- С Богом аудиенцию не откладывают”…”
“Это какой бог тебе являлся?” – спросил кто-то из больных. Они смотрели на главврача уже не осуждающе, а с интересом. Многие из спящих проснулись, лежащие сели.
“Иегова… Кто ж еще!” – поколебавшись, не очень уверенно ответил главврач, и все повернулись к кряжистому старику, дремавшему в углу.
“Да, да…- пробормотал тот.- Ага, являлся… Было дело…”
Обрадованный главврач продолжал с воодушевлением. Он сообщил собравшимся, что Бог-отец предложил ему место Бога-сына. “Но оно ж не вакантное!” – воскликнул потрясенный главврач. “Иисуса я уволил”,- жестко, без обиняков ответил Бог.
Главврачу всегда было жалко так сильно пострадавшего за свои убеждения человека, а тут еще его и уволили. “Неужели за то, что еврей?” – подумал главврач и спросил вслух: “За что, Господи?”
“Он мне не доверял,- ответил Бог-отец.- Моим указаниям следовал с оглядкой. С одной стороны: да, да, согласен на крест, как скажешь, но с другой – ученикам: купите мечей для обороны. И вообще чуть не пошел на попятный! В самый ответственный момент стал меня упрашивать, чтоб я отменил намеченное: чашу, мол, мимо пронеси. И кому ж, интересно, дать? А ему все равно, лишь бы мимо него. И совсем уж возмутительно повел себя на кресте, вдруг вообразил, что я его оставил. И прямо при всем честном народе стал меня упрекать: “Зачем меня оставил?” Могу ли я такое простить? Ведь получается, что я его завлек на крест – и в сторону, предал. Бог, значит, может быть предателем? Да меня ни один атеист так не оскорблял!..”
Пообещав в ближайшие дни изложить суть нового учения, главврач слез с кровати и, пылая взором, пошел к двери. Мы побежали за ним. Уже в кабинете он повеселел и, злорадно потирая руки, сказал: “Представляю, какую головомойку они устроят теперь
Иисусам. Да, да, множественное число, их у нас целых три! Житья от них нет, обнаглели вконец! Одного я, правда, слегка подлечил, он уже раввина требует для обрезания, но все равно. Главное, чего они требуют, так это введения средневековья. Хотят сжечь всех, кто в них не верит, включая медперсонал”.
“Они заодно? – спросили мы.- Не дерутся? Ведь каждый должен считать остальных самозванцами”.
“Я на это рассчитывал,- ответил главврач.- Специально поместил всех в одну палату, надеясь, что они будут ссориться между собой и оставят в покое остальных. Но не тут-то было! В первый день они действительно слегка побили друг другу морды. Но уже на второй нашли выход: внесли в свой канон небольшое дополнение, по которому не только Бог един в трех лицах, но и сам Иисус – тоже в трех. И тоже – един. С тех пор, изображая единство, ходят в обнимку. Попробуй косо глянуть на одного, оплеухи получишь от троих…
Но ничего, надеюсь, теперь языческие боги приструнят этих нахалов…”
Мы спросили о деньгах – вернула ли их жена, а если нет, то теплится ли на это надежда. Слезы выступили на глазах главврача.
Пронзенные к нему жалостью, мы закричали:
“Пусть их! Стоит ли из-за денег лить слезы?” “Это не слезы, сказал главврач.- Это пот”. Он пытался скрыть свою слабость, но мы-то видели, что слезы: пот стекает со лба, эти же текли из глаз.
“Но и потеть из-за них не стоит,- как бы поверили мы в невинную хитрость этого мужественного человека.- Все же счастье не в деньгах. Вернула ли вам их жена? Или еще нет?”
“Дачу она уже купила,- ответил главврач, и глаза его высохли.- Я ей, суке, этого не прощу. Она вернет их мне сториЂцей”. На этот раз каплями покрылся его лоб. Он стукнул кулаком по столу так, что вздрогнули не только мы, но и люстра.
“Надо говорить стоЂрицей”,- поправил Вяземский, за что его все потом отчитывали, говоря: “Зачем полез с грамотностью? Он раскрывает душу, а ты о частях речи”. “Разве я о частях?” – удивился Вяземский. “Пусть и не о них,- согласились с ним.- Но, когда человек фактически исповедуется, можно ли от него требовать витиеватости?” “Плевал я на витиеватость! – сказал
Вяземский.- Ваши претензии на редкость глупы. У меня впечатление, что я окружен дураками”.
Ума он был огромного, но мы, к сожалению, не всегда с ним соглашались.
Разумеется, мы ходили к главврачу не ради увлекательной беседы, а чтоб освободить Пушкина. Но долгое время больших успехов нам добиться не удавалось.
“Ребята,- говорил нам главврач,- в тысячный раз объясняю: будь моя воля, отпустил бы его немедленно. Но есть решение суда.
Пушкин – рецидивист, на его счету две стрельбы по Дантесу, и обе не мотивированы, разве это нормально? Его спрашивают: зачем стрелял? – он отвечает: так захотелось… Его спрашивают: почему стрелял? – он отвечает: не знаю…”
Главврач разводил руками и глубоко, как в спортзале, вздыхал.