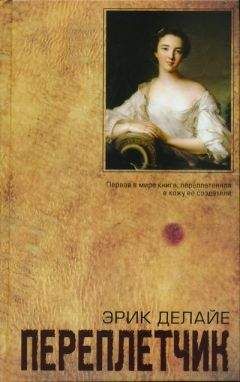Было известно, что каждая из двух церквей представляет отдельную ветвь религии христоверов и между ними существуют глубокие разногласия в трактовке учения, и в былые времена это привело к разным бедам, кончавшимся кровопролитием, что, несомненно, может повториться. Расхождения, разъединившие христоверов, временами приобретали характер непримиримых и противоречащих здравому смыслу дебатов, и шли они о том, как христоверы понимают обряд причастия — высшую точку их богослужения, но больше ничего о сути их спора никто не знал. Однако, рассуждая на эту тему с друзьями, Коб, подобно прочим, всерьез излагал собственные умозаключения.
Экзотика не давала покоя! Гладковыбритые лица мужчин неустанно напоминали об их отличии от большинства горожан, не говоря уже о бесстыже необрезанной крайней плоти, таившейся в каждой паре штанов. Тем, кому удавалось догнать любого мальчишку-иноверца, доставалась главная награда стащить с него штаны и поглазеть в свое удовольствие на непривычно удлиненный безликий отросток, напоминавший червяка.
Ладно, не будем смешивать понятия или искать оправданий. Только представьте себе, какими зловещими представлялись христоверы, особенно самым невежественным и подозрительным обитателям такого глухого городишки, как Нидеринг. Глухой городишко или не глухой, не в этом суть — такое случается где угодно, и в мелких и в больших, чем Клаггасдорф, городах.
Так вот: Коб и вправду считал и тогда и позже, что на него оказывали влияние слова и суждения окружавших его людей. Конечно, оказывали. Иначе не бывает, все, в той или иной степени, подвержены чужому влиянию.
Взять хотя бы то, как христоверы ели, и вспомнить, какие слухи ходили об их обычаях. Отец Коба, мягкий и добродушный разносчик Амос, который, по мнению окружающих, и мухи не обидит, и тот не мог удержаться от сплетен. Есть такая община, рассказывал он сыну, религия которой (единственная в мире из всех религий, заверял Амос) позволяет употреблять в пищу все, что угодно, и что еще хуже — есть что попало, как попало, беспорядочно, без разбору, очищенное и неочищенное, сырое и вареное, хоть так, хоть в собственной крови, хоть в молоке, и в любой посуде. С одной стороны — тут Амос понижал голос, удрученно, но не без удовольствия, и продолжал, как бы с недоверием: а с другой! — эти всеядные едят плоть своего Бога и пьют Его кровь, и это главная часть их богослужения! А Бога этого, погубленного и возродившегося, считают истинным Богом, но — помни, сынок! — на самом деле это наш Бог, тот Бог, что явил себя Иегудимам, но христоверы сделали Его не Тем, кем Он когда-то был. Христоверы Его очеловечили, не лишив, правда, божественной природы, разделили на части, потом мистически воссоединили, и пусть Его пытали и мучили, тем не менее Он всесилен; имя Его нельзя упоминать всуе, однако Его изображения, начиная с младенчества на руках у нежной юной матери, до зрелости, где сплошные страсти, и, наконец, до тех, где он во всей славе Своей, в каждой их молельне.
Но это не их, а наш Бог! Нет, какая наглость! Естественно, среди богобоязненных нашлось много людей, которых просто-таки лично раздосадовали, глубоко оскорбили и разгневали заявления христоверов, и в первую очередь то, что они считают себя избранными, что наследники завета — это, оказывается, они. А ведь их, по сравнению с нами, ничтожно мало, да и положение их самое жалкое, так что всякому, имеющему глаза и уши, ясно, что право на нашей стороне, а не на их. Жалкое племя (это, если вы хотите их пожалеть); сумасброды и богохульники (если вы не расположены их прощать).
Если Кобу не изменяет память, в то время никто не призывал выгнать их из города или выслать куда подальше. Это началось позднее. Наверно, многие их не любили и гнушались ими, а те, кто обвинял христоверов в фантастических преступлениях и еще более фантастических умыслах, побаивались из суеверия. Но убивать — нет! Высылать? Грабить? Об этом никто и не думал, по крайней мере, всерьез. Ведь христоверы — больше их было, меньше — жили рядом, и никто не сомневался, что так будет и впредь. В любом случае богобоязненные были настолько разделены внутри себя, такие у них были противоречия, межродовые конфликты, а порой случались и ссоры и стычки из-за невероятно запутанных вопросов религии, языка и суверенитета, территориальных притязаний и привилегий, что на христоверов — сколько их там ни было, — с их делами, просто не обращали внимания. От востока до запада, от дождливой Англиа до дикой Руссы, богобоязненные и их правители были заняты более важными проблемами: Цаддукеи (так называемые) боролись с (так называемыми) Перушеями, а совместно выступали против жрецов, свидетелей конца света, последователей мессии и тому подобных; представители царских и нецарских фамилий из колена Давида (так называемого) боролись с Хашмонеями (самозванцами), равно как и с теми, кто получал власть из рук римского императора, не говоря уж о бесчисленных кликах и фракциях, то присоединявшихся к ним, то резко выступавших против них.
В общем, народу было о чем посудачить и чем заняться. И разумеется, как всегда, люди были заняты своими личными делами: смерти, праздники, болезни и грабительские налоги, взимаемые мытарями по неизменному требованию правителей.
Предания глубокой старины. Куда подевались люди, окружавшие Коба в Клаггасдорфе, как богобоязненные, так и христоверы? С таким же успехом можно спрашивать, куда уплыли вчерашние облака или куда девается ветер, когда перестает дуть.
Сиди теперь в Нидеринге и жди, когда семьдесят с лишним лет спустя после клаггасдорфского ученичества увидишь христоверов, разве что в обличии детей-призраков, этих маленьких фурий. Думая о них, Коб снова задавался вопросом, да не одним. Ответа на них он не находил, но насущности вопросов это не умаляло. Наоборот.
Что бы случилось, если бы история пошла другим путем, когда Рим правил, как он считал, цивилизованным миром? Что, если бы Иегудимы тех времен не упорствовали, вернее, если бы им не было дозволено упорствовать в достижении той цели, к осуществлению которой они тогда приступили и которую им дано было осуществить благодаря имперскому владычеству, а именно: каких бы язычников они ни покорили, заставлять их, включая конечно, и самих римлян принимать веру в единственного истинного Бога. Что, если бы тех, кто первыми откликнулся на этот призыв, тех, кто первыми назвали себя богобоязненными, властители империи по той или иной причине сочли предателями, преступниками, врагами государства? (После восстания в Святой Земле, к примеру?) Что тогда? Представим себе, что против них направлена вся мощь империи с ее узаконенной жестокостью. Как тогда сложилась бы судьба богобоязненных, судьба его народа, его собственная жизнь? Под «тогда» Коб подразумевал «сейчас», сегодня, этим вечером.
Что это — бред сумасшедшего? Безусловно. Даже для такого закоренелого скептика, как Коб, такая фантазия смахивала на богохульство. Подумать только — другая история! Другое историческое прошлое для доброй половины человечества!
А впрочем, почему бы и нет? Ведь случилось же нечто подобное с злосчастными христоверами.
Разве нет?
А вот и еще одна фантазия.
Коб попробовал вообразить, что было бы, если бы христоверы не ухватились за возможность, которую он им только что — в ретроспективе — предоставил. Что, если бы они выбрались из своих нор и щелей, дабы донести до мира весть о смерти и воскрешении Спасителя. И тогда в том-то, в чем римляне злокозненно обвинили их, от питья крови до заклания младенцев и поклонения ослице до вечных заговоров с целью достижения мирового господства, стали бы обвинять богобоязненных. Но прибавляли бы к этому перечню еще и обвинение в богоубийстве, убиении их Бога, Бога всех и каждого!
Что при таком повороте событий стало бы с Кобом? С Элизабет? С их близкими? И с людьми, жившими по соседству с ним в Клаггасдорфе семьдесят лет назад — вдовой и ее детьми, ее жильцом Малахи, ее служанкой христоверкой Санни?
Эта девочка была единственной служанкой у соседей Хирама. (Не считая, поправил себя Коб, женщины постарше, приходившей раз в неделю постирать белье в реке, где она, прежде чем развесить вещи сушиться на кустах, била их, как побивают преступников, камнями, впрочем, довольно вяло.) Всю другую работу по дому делала Санни, понукаемая вдовой и при помощи ее дочерей. Санни мыла посуду, застилала постели, драила горшки, развешенные на крючках над очагом, мела полы, выносила помои, шила, чистила грязные сапоги. Она была одних лет с младшей дочкой хозяйки — лет четырнадцати, не больше. Линия ее формировавшейся груди была едва заметна — так выпирали ребра. Длинные шея и талия свидетельствовали о том, что девочка, когда вполне разовьется, будет высокого роста. Она носила чепчик, как положено незамужним христоверкам, неуклюжие деревянные сабо (знак бедности, а не принадлежности к вере) и грубые, толстые чулки из шерсти.