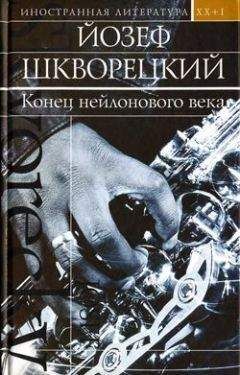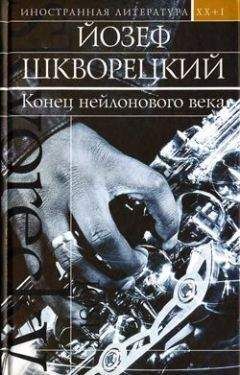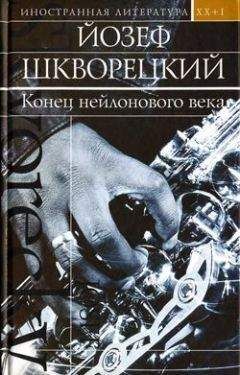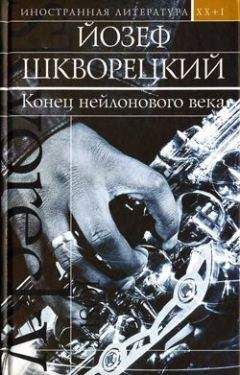– Разбежались! – говорит. – Пан Бем может поцеловать меня в одно место.
И братан туда же:
– Правильно! Передай ему, что мы страшно благодарны, и пусть он катится к такой-то бабушке, спекулянт чертов!
И что ты на это скажешь, Ребекка?
– Иди ко мне. – ответила Ребекка. – Ты циник, Даничка, но с тобой, по крайней мере, не так грустно.
Потом мы лежали рядом в приятной тишине. Жестяной абажур фонаря за окном раскачивался на дождливом ветру, как кораблик на якоре, утлое суденышко этих мгновений близости, этих всегда слишком быстро пролетающих воскресных часов, которые остаются человеку. Внизу, под нами, сияла магазинная витрина, и слабый отблеск этого света поднимался по фасаду противоположного дома к сумрачному угольно-черному небу, с которого лил дождь. С которого лил дождь. С которого лил дождь.
Ребекка рассказывала мне о своем возвращении.
– Я убежала из карантина. Тифом я переболела еще в сорок четвертом, и не хотелось оставаться там ни на минуту. Убежала от этой комиссии Красного Креста и от коллаборационистов, которые мгновенно слетелись туда, чтобы как-то очиститься от греха.
Она не хотела там оставаться: скорее назад, в город. Хотелось затеряться в этом городе арийцев среди арийцев. Хотелось в кино. Хотелось новое платье. И в первую очередь ей хотелось выспаться в мягкой постели, на белых перинах, в объятиях того, кто знает с уверенностью, данной человеку, что его завтра не повесят.
– Но я не могла никого найти. В квартире дяди Огренштейна уже расположился какой-то слесарь: эту квартиру он занял во время революции. На рукаве у него была повязка рабочей гвардии, и он рассказывал, что в квартире забаррикадировались скопчаки,[16] он их выгнал, угрожая автоматом. Врал, конечно. Комнаты остались такими же, как в старые времена, как при дяде Огренштейне, даже зеленый сервиз в буфете с резными звериными головами. Этот гвардеец-грабитель дал мне две сотни. Я сказала ему, что все имущество дяди Огреиштейна будет принадлежать мне, если дядя не вернется, поскольку детей у него нет и он единственный брат моей матери, а брата моего до смерти забили немцы. Этот революционный герой сообщил мне, что все требует тщательной проверки, чтобы в новом, свободном государстве не возникали беспорядки с самого начала, и добавил еще, что он тоже имеет право на льготы, потому что сражался на баррикадах, а эта квартира и имущество в ней считались немецкими. Во время революции, мол, здесь жили немцы, так что он все это заслужил по праву, за то, что рисковал головой. Мне же хотелось плакать. Если бы мне тогда было, по крайней мере, двадцать и была б я такой смелой, как сейчас… Но тогда мне еще семнадцати не было, и хотелось плакать, и про себя я сказала: чтоб ты подавился, гой, этими шторами и персидским ковром, а из зеленого сервиза сделай себе гуляш; чтоб ты утопился в ванной и вытек в канализацию. Повернулась и ушла.
Она рассказывала, как ходила потом на старую их квартиру, где все в точности повторилось. С той лишь разницей, что там оказался портной, который сказал ей, что пришел сюда отомстить за ее родителей: он знал, что немцы убили ее брата и отца с мачехой, и он тогда выстрелил тому немцу в живот, тому проклятому прусаку-чиновнику, который поселился здесь со своей семьей, когда увезли ее родителей. «Вот здесь, на этом ковре, он подох, скопчак поганый. Видите это пятно? Это от его крови. Целых полчаса он здесь подыхал, я это по часам засек, барышня, по его же часам, – классные такие часы, швейцарские. Украл где-то их, сволочь. Он вроде прибыл сюда из Франции». Но когда она стала говорить, чтоб он вернул ей квартиру или хотя бы комнату, он начал жаловаться, что потерял свою при бомбардировке, у него четверо детей, и ему нужна мастерская, а эта квартира слишком маленькая.
– И он был прав, – сказала Ребекка, – квартира эта ничего не стоила. Не знаю, почему батя в свое время не нашел чего-нибудь получше. Но у нас на всем экономили. Мы не были богатыми евреями. Было немножко драгоценностей, и мне смутно припоминалось, что батя кому-то оставил их на хранение, вроде бы Ружичкам с четвертого этажа. И осталась я всего-навсего с этими двумя сотнями в руках, что дал мне тот гвардейский грабитель. Так что я этого портняжку даже в мыслях не обругала; сказала ему «с богом», он проводил меня до самой улицы, все время извинялся, а потом сообщил, что вроде бы в старой еврейской ратуше заседает еврейский народный комитет, который выделяет квартиры тем, кто вернулся, ~ хорошие квартиры, в новостройках, где жили эсэсовцы. Мне было неприятно после всего этого возвращаться и карабкаться на четвертый этаж к тем Ружичкам, и я пошла на трамвайную остановку, а он, болван, не отходил от меня до самого трамвая. Мне было так неловко, что я влезла в трамвай, проехала одну остановку, а потом вернулась. Ты, дорогой, не имеешь представления, как нелегко было идти в то лето по пражской улице, в такой день, когда еще никто не работает, все еще думают бог знает о чем; тебе не понять этого состояния, ты ведь не был заключенным. Сначала для меня это казалось солнечной улицей чистой радости; ты ведь не имеешь понятия, чем был тот вонючий, тифозный Терезин, – а потом эта ярко-зеленая летняя земля, Прага, залитая солнцем, флаги на улицах, и я без звезды, только заметный след от нее остался, который бросался людям в глаза; я такая взволнованная, восторженная, всякие дурацкие мысли в голове о новой жизни, которыми люди себя обманывали в Терезине. И теперь они пялятся на меня: еврейка вернулась. Еврейка. Ты не знаешь, что это такое, Дэнни. Да и я сама не знала: вдруг я почувствовала себя среди людей грязной паршивой овцой. Не знаю, может, они оказались бы порядочными или внимательными, если бы я у них что-то спрашивала или чего-то от них хотела; но мне от них уже ничего не хотелось; после этого рабгвардейца и этого портного – уже ничего. Все это ударило мне в голову. Ни о чем подобном я не думала, когда была девчонкой. Лишь потом, когда меня заставили носить звезду, когда выгнали из школы, когда мне запрещено было ходить в парк и в кино, садиться в передний вагон трамвая. И я вместо того, чтобы… Понимаешь, я стала сама себе противной, – слышишь, Дэнни, сама себе. В газетах я видела карикатуры носатых евреев, рисовал их какой-то Релинк, если помнишь. И писали, что евреи воняют чесноком. Ужасные статьи! Наверное, те, кто это писал, просто не понимали, что пишут. Ведь это было страшно! Воняют чесноком. Ведь они должны были знать, что ждет евреев. Этого я, тогда еще совсем девчонка, не понимала: меня больше всего мучило, что я так выгляжу. Мне страшно хотелось быть такой, как Андуля Малинова, с такой же носопыркой, как у нее, такой же по-славянски полноватой; я смотрела на себя в зеркало и ненавидела свое тело, свою рожу, весь этот еврейский кшихт[17] и все время казалась себе грязной. Это мне постоянно кажется, до сих пор.
– Перестань болтать ерунду, – сказал я ей. – Что в тебе грязного? – И поцеловал ее в ушко. В розовое, совершенно арийское, свежевымытое, ароматное ушко.
– Ничего, – ответила Ребекка. – Просто я кажусь себе такой. И скребу себя два раза в день, и душ каждый вечер, а все равно себе кажусь грязной. Ты вот, например, едва споласкиваешь руки. Молчи, я в этом понимаю толк, – прервала она меня, когда я хотел возразить, хоть это и была правда. – Ноги моешь раз в неделю, в баню ходишь раз в три недели, потому что дома у тебя нет ванной, а для общественных ты слишком изнеженный: потом приходится ложиться в постельку, чтоб не простудиться.
И она рассказывала. Как тогда никого ни о чем не спрашивала, ехала молча, шестнадцатилетняя евреечка, трамваем к дому дяди Огренштейна, потому что на квартиру эту она имела право, ей не нужно было никого ни о чем просить; но там оказался этот революционный боевик, а в старой ее квартире – мститель-портняжка, который попал под бомбардировку, так что когда она выходила из трамвая и возвращалась назад, флаги на домах уже не были такими праздничными, ничто не казалось уже таким новым, ничто не предвещало ей новой жизни: ни толпы людей с повязками и без них, с триколорами, с красными флажками, ни сделанные на скорую руку вывески на чешском языке, ни трудовые бригады из наголо остриженных немок и коллаборационистов, разбирающие остатки баррикад. В яркости этого чужого мира ее снова охватило то же страшное одиночество жизни, как в тот час, когда она сама, без всякой помощи, тащила свой чемодан на территорию Выставки, то же самое бессилие ее проклятия, и хотя она могла теперь пойти в кинотеатр, но оставалась еврейкой, и бог один знает, что это такое – еврейство ее, но оно отгораживало ее в тот ликующий будний день от других – в одиночество, страшнейшее одиночество сиротства, в непостижимую, внезапную изолированность посреди города, где уже не было ни дяди Огренштейна, ни отца, ни брата, где словно вообще не было евреев, лишь она, шестнадцатилетняя грязная девушка, с испорченными в Терезине зубами, с двумя сотками в кармане платья из мешковины, без продовольственных карточек и к тому же – без радости возвращения.