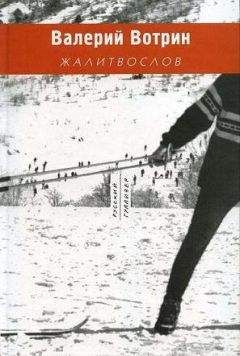На новое-то вселили, а старое было недалече. Прежний дом их был большой, с садом — вишнями да яблонями, рядом с церквой. Не то чтобы Марии жаль его оставлять — уж так власть решила, поперек не пойдешь. Но сердце болело смотреть, что с домом сталось, — устроили в нем клуб, гармошка по вечерам играет, дым столбом, лекции против Бога читают приезжие лекторы в очках. И это еще хорошо, что так, — вон церкву вообще развалили, еще в 23-м году. По первости-то развалили, а потом решили устроить в ней склад, навели крышу, стены укрепили. Была церква — стал склад. Этакое горе.
Отца Николая забрали прямо перед Пасхой. Пришла повестка явиться в райсовет, а там уже ждали. Так и не успела она с ним попрощаться как следует, даже в дорогу не собрала. На другой день прибежала туда, стала допытываться, куда мужа забрали, а председатель с улыбочкой и говорит — взят, дескать, отец Николай как преступный антисоветский элемент. А потом вообще отказался с ней разговаривать.
Они ждали этого давно. В соседнем приходе священника забрали в 33-м, слухи дошли, расстреляли. Там вообще круто взялись за причт — взяли всех вплоть до псаломщиков, осудили как врагов народа. «Вот погоди, Маша, — говорил ей отец Николай, — доберутся и до нас.» Умный был человек, чувствовал беду. Но и стойкий — я, говорил, Богу служу, не власти. Потому и забрали. Этакое горе.
После закрытия церкви жили они скудно. Кормились чем могли — отец Николай даже плоты по реке сплавлял. Корзины плели из ивняка. В колхоз-то их не пускали. «Ничего, Мария, — говорил ей отец Николай, — ужо как-нибудь выживем. Небось люди добрые не дадут сгинуть.» Ан вот дали — со свету сживают. Сколько ночей проплакала, почернела вся. И посейчас не знала, жив ли, куда угнали. Часто снился он ей — веселый, осанистый, в черной своей рясе, улыбается. Значит, живой, значит, не расстреляли, как батюшку из соседнего прихода. А уж мы тут как-нибудь. Корзины она продолжала плести. Но к колхозу ее близко не подпускали. И частенько бывало, что поясок она с ребятами подвязывала потуже.
Вернулась в избу, плотно прикрыла дверь за собой. На печи еще всхлипывали — видать, не на шутку перепугались. Что делать — разделась, полезла на печь, прижала к себе обоих. А у самой еще внутри не отошло — недоброе чуялось, не к добру собака каждую ночь беспокоится. И что-то восстало в ней: «Утром пойду к председателю, авось даст работу. Не по закону это, чтобы малые ребятишки голодали. Они-то ни в чем не повинны.»
Это был не первый раз, когда она ходила к председателю. Встречал он ее все холоднее и холоднее, и она со злостью вспоминала, как этот самый Петька Тютюнов первым шапку скидывал, завидев отца Николая. А теперь, вишь, председатель! А не посмотрю, что председатель. Нету закона такого. И по селу шла она, гордо подняв голову, по сторонам не глядя. А у самой холод внутри, сердце теснит. Вошла в контору — сидит, здоровый точно бык, рыжий, усатый, глаза голубые, холодные.
Завидев ее, председатель нехорошо улыбнулся:
— А я прямо чуял — вот попадья припожалует. Чего тебе?
— А того мне, — заявила она, — что с голоду через тебя помираем. В колхоз не берут, работы нет, хоть с сумой иди. Нету такого закона…
— Это тебя-то в колхоз? — перебил ее Тютюнов.
— Нету такого закона, — твердо закончила она, — чтобы дети мучались. Голодуют ребятишки, это тебе вдомек? Я в колхозе работать согласная, доить, на поле — все умею…
— Это тебя в колхоз? — переспросил Тютюнов и прищурился. — Да будь ты в колхозе — поперли бы. Еще не хватало, чтобы в колхозе духовенство состояло.
— Какое же я духовенство? — весело удивилась она. — Духовенства-то у нас в дому и не осталось. Последнее намедни увели, кормильца.
— Увели, — согласился Тютюнов с улыбочкой. — И в колхоз мы тебя не примем именно потому, что и ты скоро… того… присоединишься.
Сказал — как брякнул.
Обратно она шла — не шла, плелась. Вошла в избу, ноги подкосились, упала на лавку и разрыдалась. Вот к чему псина проклятая выла. Да и сердце чуяло. Ох, горе-беда…
Той ночью это и произошло. Кобель взвыл прямо-таки не своим голосом — и затих, словно дубиной прихлопнули. И Мария увидела, что в окно заглядывает человек. Лица-то было не видать, но показалось ей, что глаза его горят огнем, и смотрит он пристально, да все на печь, где дети спали. Сама не поняла, как оказалась на ногах, заслонила собой печь, грозно сказала окну:
— А ну, прочь, проклятый!
Тень за окном не шевельнулась.
— Прочь! — повторила она, чувствуя, как трясутся колени.
Дети проснулись, завозились на печи.
— Мама! — позвал старший. — Ты чего?
— Не смотрите туда, — метнулась она к ним.
— Да нет там никого! — удивились они.
Обернулась — и впрямь никого за окном. Привиделось, чай?.. А то, может, Петька озорует?.. Да нет, не водится за ним такого…
Наутро она зашла к Митяю. Изба у него такая же маленькая, тесная, но чисто выметенная, порядок в вещах. Сам Митяй сидел за столом, свесив большую кудлатую башку почти к самой столешнице. Перед ним стояла початая бутылка и миска с кислой капустой. Увидев Марию, он даже не удивился.
— Заходь, — махнул он рукой, откуда-то вынимая второй стакан. — Я тут того… поминаю.
Устраиваться надолго Марии не хотелось: видно было, что пьет Митяй уж не первый день, глаза красные, бессонные.
— Я только спросить… — начала она.
— А чего спрашивать? — сказал Митяй, наливая водку в стакан. — Годовщина сегодня… поминаю Анюту.
— Да я не про то…
— И я не про то. Выпей сначала.
Делать нечего — отпила глоток, заела щепоткой капусты, сказала:
— Земля ей пухом, хорошему человеку.
— Хорошему, — кивнул Митяй и опрокинул свой стакан.
— Мить, — сказала она, подождав. — Ты это… не спишь, да? Бродишь? Ты скажи, я пойму. Такое-то горе… А только дети перепужались…
Митяй смотрел на нее, будто не видел.
— Бродишь? — переспросил он вдруг. — Хто — я? Да не, сплю как суслик. Я ведь, Марьюшка… — и кивнул на стакан.
Она сидела молча, ничего не понимая. Если не Митька, то кто? И опять холод появился внутри.
— Кобель твой сегодня, — сказала она, слыша себя будто со стороны.
— Что? — вскинулся Митяй. — Опять, что ли? Щас я его поленом!..
Она остановила его, вновь усадила на лавку.
— Животина худое чует, — сказала она строго, поднимаясь. — Ну, я пойду, что ли.
Митяй смотрел на нее снизу вверх.
— Марья, — произнес он, — ты того… ежели что худое… ты мне кричи.
— Благодарствую, — сказала она и вдруг неожиданно для себя самой поклонилась ему. Выходила из избы — слезы навернулись на глаза.
Три дня прошли спокойно, и она начала уж обо всем забывать. На четвертую ночь открыла глаза. Посреди избы, совсем недалеко от изножья ее кровати, стоял заваленный бумагами стол, на нем горела лампа под абажуром. За столом сидел лысый, остроголовый, в серой рубахе с петлицами, на которых были два ромба, и неотрывно смотрел на нее. И она вдруг поняла, что именно он заглядывал намедни с улицы в окно. Взгляд его приковывал к месту, лишал воли. Наконец, склонивши голову к бумагам, он резко спросил:
— Фамилия, имя, отчество?
Она попробовала шевельнуть языком.
— Карташева… Мария Григорьевна.
— Давно ли знаете врага народа Карташева Николая Михайловича?
— Да ведь это ж… муж мой.
— Повторяю вопрос: давно ли знаете Карташева?
— Четырнадцать лет замужем, — отвечала она. В голове было смутно, сердце колотилось.
— Расскажите о своей антисоветской деятельности в рядах контрреволюционной церковной организации «Веха».
Она молчала — комок стоял в горле. Так вот, значит, почему его… Колю-то. Это ошибка ведь, надо сказать.
— Ошибка это, гражданин следователь, — протолкнув комок, заговорила она горячо. — Мы закон уважаем… не знаю никакой вехи… муж мой нигде не состоял… я тоже сочувствующая… мы по закону.
Сидящий поморщился.
— Значит, отказываетесь сотрудничать со следствием? — Острые глаза впились ей в лицо.
— В колхоз не берут, — исступленно произнесла она, — детишки мучаются, голодуют… Тютюнов, вот кто враг заклятый… а я и доить, и в поле могу… нету такого закона, чтоб советского гражданина так…
— Есть такой закон, — сказал остроголовый с жуткой усмешкой.
Она замолкла, как запнулась.
— А вы кто? — непослушным языком выговорила она. — Я давеча видела, вы в окно заглядывали. Нельзя так, гражданин начальник, детишки пугаются.
— Я Страх, — сказал он просто.
У нее перехватило дыхание.
— Полковником ГБ сейчас, — сказал он. — Расследую ваше дело.
— Что же… и дело заведено?
— У меня на всех дело заведено.
И тут с печи послышался голос младшего:
— Мама, с кем ты разговариваешь?
— Спи, Мишенька, — метнулась она к нему, загородила собой, — это я так, сама с собой…