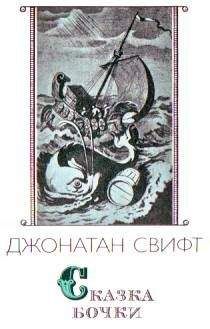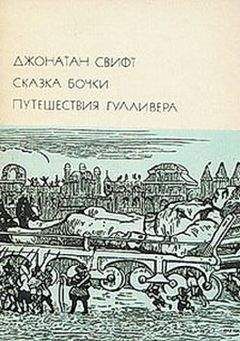С тех пор как Фейт поняла, что из-за Рикардо она будет какое-то время несчастна, родителей она посетила только однажды. Фейт и взаправду американка, воспитана она была как все: верила, что нужно стремиться к счастью.
Только, как она ни изворачивайся, она кругом несчастна. И ей стыдно за это перед родителями.
— Тебе нужна помощь, — говорит Хоуп.
— Психиатрию придумали специально для таких, как ты, Фейтфул, — говорит Чарльз.
— Жизнь коротка, златовласка моя. Я дам тебе немножко денег, — говорит отец.
— Когда же ты наконец станешь нормальным человеком? — говорит мать.
Они размышляют о важных вещах. О разделе Иерусалима, о второй мировой, об использовании атомной энергии в мирных целях (так ли уж это необходимо?); изредка до их тихой заводи докатываются легкие волны антисемитизма.
Они с отвращением смотрят на Фейт, которая среди всеобщего процветания оказалась вдруг в таком положении. Им стыдно за то, что она несчастна и не может положить этому конец.
Ну и пусть! Пусть им будет стыдно! Пусть им всем будет стыдно!
Рикардо, первый муж Фейт, был человек непростой. Он был горд и счастлив тем, что его ценят мужчины. «Мужчины меня уважают!» — говорил он. И, как это принято у тех мужчин, которых другие мужчины уважают, он был ходок. Видели, как он гонялся за какой-нибудь дамочкой на Западной Восьмой улице и сигал ради какой-нибудь киски через изгородь где-нибудь в Бедфорд-Мьюз.
Он придумывал им прозвища — обычно связанные с каким-нибудь их недостатком. Фейт он называл Лысухой, хотя она вовсе не лысая и никогда не облысеет. У нее тонкие светлые волосы, она считает, что это полностью соответствует ее почти воздушному облику: когда она собирает волосы в пучок, выбившиеся локоны обрамляют лицо и дымка оттеняет ее смущенный румянец. Сейчас он живет с полной женщиной, у которой белые пухлые руки, ее он зовет Толстухой.
В Нью-Йорке первый муж Фейт старается жить неподалеку от «Зеленого петуха», весьма популярного бара, где его знают и, когда он входит, галантно пропуская вперед свою очередную спутницу, бурно приветствуют. Он представляет даму — знакомьтесь, это Толстуха (или Лысуха). Была когда-то и Жучиха — он вытащил ее из навозной кучи, где та катала шары с барменом Расселом. Рикардо, чтобы она не превратилась в жеваную жвачку (так он выражался), поднял ее уровень, заставив взобраться на холм макулатурного чтива, и смотрел, как она, бедняга, управляется.
Жучиха до сих пор живет в самом сексуально озабоченном уголке сознания Фейт: страшная судьба, была самой что ни на есть обычной оторвой, но после того, как Рикардо помог ей пережить два аборта и одну студеную зиму, стала алкоголичкой и настоящей — за деньги — шлюхой. Обычным вознаграждением — вечером вдвоем и поздним завтраком в выходной — она быстро перестала довольствоваться.
Жучиха была до Фейт. Рикардо согласился пару лет побыть мужем Фейт, потому что она от счастья так перестаралась, что забеременела. Почти тут же случился выкидыш, но было поздно. Выкидыш случился, когда они уже шесть недель как зарегистрировались в мэрии, и он — мог ведь быть джентльменом — отдался ее любви; среднего роста, с мощными плечами, черными как смоль волосами, сиреневыми глазами, до кончиков пальцев мужик — Фейт любому, кто готов выслушать, скажет: она любила Рикардо. Она и себя стала любить — то в себе, что хоть пару лет побуждало его на бередящие сердце ласки.
Если кто говорит: «Фейт, да о чем ты? Ну какая любовь?» — Фейт всегда возражает. Не могла она не любить Рикардо. Она родила ему двоих сыновей. Приучила их уважать его: ведь он, когда был трезв, любил их по-своему. Он часто орал, причем искренне, в «Зеленом петухе» — куда он приплетался чуть ли не на бровях, — что она родила мальчишек, только чтобы заставить его пахать с девяти до пяти.
В те бесхитростные времена, говорила Фейт, у нее и в мыслях подобного не было. В свою защиту она высказывалась публично — на детской площадке и в очереди в кассу супермаркета, — объясняла, что все эти временные работы — отличный способ выяснить, согласны ли оба супруга на такую скудную жизнь. Потому что, спрашивала она дам, которым поведала всю свою жизнь, когда же мужчине общаться с детьми, если он все время на работе? Именно так, вот в чем корень всех бед нынешних детей, соглашались дамы, которые хотели ее по-дружески поддержать, ведь они совсем не видят своих отцов.
— Мама, — сказала Фейт, когда в последний раз приезжала навестить ее в «Детях Иудеи», — мы с Рикардо больше не будем жить вместе.
— Фейти! — сказала мать. — У тебя кошмарный характер. Нет-нет, ты уж послушай. Такое со многими случается. Через пару дней вернется. Все-таки у вас дети… ты просто скажи, что больше так не будешь. Это же такая мелочь. Полная ерунда. Когда он пару месяцев назад был здесь, мне показалось, что он стал гораздо лучше. Выбрось ты это из головы. Убери дом, приготовь мяса. Вели детям не шуметь или отправь их к соседям смотреть телевизор. Глазом моргнуть не успеешь, а он уже дома. Не думай ты об этом. Прическу сделай. Папа с радостью подкинет тебе денег. Ты же знаешь, мы не нищие. Только скажи, что тебе нужна помощь. И не переживай. Он завтра же придет. Вернешься домой, а он колонки у проигрывателя настраивает.
— Мам, ему же медведь на ухо наступил.
— Ой, Фейти, надо тебе половчее управляться с жизнью.
Они посидели рядом — не подымая от стыда глаз. Кто-то подергал за дверную ручку.
— Г-споди, это же Гегель-Штейн, — шепнула миссис Дарвин. — Тсс! Фейт, Гегель-Штейн не говори. Она во все свой нос сует. Так что ни словечка.
Миссис Гегель-Штейн, президент ассоциации «Бабушкины шерстяные носки» прикатила на отлично смазанной инвалидной коляске. С собой она прихватила множество разноцветной пряжи. Она была дама старая. Миссис Дарвин на самом деле старой не была. Миссис Гегель-Штейн основала свою ассоциацию, потому что нынче дети всю зиму ходят в хлопчатобумажных носках. У бабушек конечности замерзают в мгновение ока, поэтому они куда внимательнее к таким вещам, чем нынешнее поколение матерей, вечно встающих на защиту того-сего.
— Шалом, дорогая моя, — поприветствовала миссис Дарвин миссис Гегель-Штейн. — Ну, как дела? — Она решительно взялась направлять разговор.
— Ах, — ответила миссис Гегель-Штейн, — миссис Эсси Шифер отказалась участвовать — запястья болят.
— Неужели? Так пусть приходит просто с нами посидеть. В компании веселее.
— Да будет вам! Что пользы ей просто так сидеть? Фу-у, — сказала миссис Гегель-Штейн. — Прошу прощения, неужели это Фейт? Подумать только! Хоуп-то я знаю, а это и в самом деле Фейт. Смотри-ка, нашла-таки время навестить маму… Повезло ей, что у тебя в кои-то веки выпал свободный часок.
— Гитл, умоляю, не надо. — Мать Фейт была в ужасе. — Очень вас прошу. Фейт приходит, когда может. Она мать. У нее два сыночка. Она работает. Гитл, вы что, забыли, каково это — управляться с детьми? На первом месте кто? Детки, вот кто.
— Ну да, да, на первом. Мне ли не знать? Арчи всегда был на первом месте. Я получила на Рождество открытку из Флориды — от мистера и миссис Первых. Вы меня послушайте, дурочки. Я приехала провести лето у них за городом, там лес, река. Только никакой вентиляции, весь дом провонял термитами и собакой. Я его прошу: мистер Первый, я старая женщина, пожалейте меня, мне нужен воздух, не закрывайте вашу дверь. Прошу, прошу — в ответ ни слова. И каждый вечер в одиннадцать — ба-бах, дверь закрывают наглухо. Делов-то на десять минут, а они на всю ночь запираются. Мне будет лучше — так я им сказала — в доме престарелых. Здесь никто сквозняков не боится.
Миссис Дарвин покраснела.
— Миссис Гегель-Штейн, дайте людям пожить, как они хотят, — сказала Фейт.
Миссис Гегель-Штейн, а она неизменно знала Фейт лучше, чем Фейт знала миссис Гегель-Штейн, сказала:
— Ну ладно, ладно. Раз уж ты здесь, Фейт, давай, помогай, не ленись. Вот так. Надень моток на руки, а твоя мама смотает шерсть в клубок.
Фейт была не против помочь. Она надела пряжу на руки, а миссис Дарвин стала ее сматывать. Миссис Гегель-Штейн громким голосом давала указания, катаясь вокруг них в своем кресле и указывая на серьезные недочеты.
— Селия, Селия, — кричала она, — клубок должен быть круглый, а у тебя он квадратный. Фейт, держи руки ровнее. Так, наклони чуть-чуть. У тебя что, ДЦП?
— Еще пряжи, еще, — сказала миссис Дарвин, отправляя готовый клубок в пакет. Они трудились как пчелки и болтали о жизнях и жизни. Они работали. Они узнавали друг от друга о насущном и выглядели воодушевленными — как кибуцники.
Дверь в комнату мистера и миссис Дарвин оставалась открытой. Мимо проходили бородатые старики со сцепленными за спиной руками — остатки воинства Г-споднего. Утренние газеты они засовывали под матрац, а ввиду печальных текущих событий спешили в синагогу Иудеи на шестом этаже, откуда им было проще общаться с Б-гом. Дамы цеплялись за свои палки, суставы у них не гнулись. Они стучали в открытую дверь и говорили: