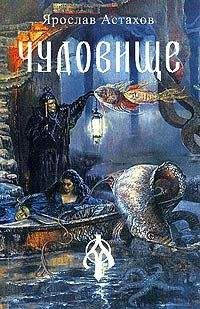– Там… раньше… не так уж много было запоминающегося. Впрочем… Кузнец из нашего полиса повстречал однажды на пустынном берегу мою мать. Она выходила тогда из моря после купания… Я не думаю, чтобы она или он были как-то уж особенно виноваты в том, что дальше произошло. Кровь у Благословенного рода горячая, как известно… Отец мой, декан селения, довольно жестоко избил потом этого кузнеца. В те годы отец был еще не старым и очень сильным. Едва ли он от гнева впал в исступление и страстно захотел мстить. По нраву он рассудительный и спокойный. Но мести от него ждали. Таков обычай людей. И вот… иначе бы он не был деканом! Со временем кузнец оправился от побоев. Но почему-то совершенно забросил, вдруг, свое ремесло. И сделался почти нищим. Единственная у него была радость: хотя бы иногда издали слышать голос, видеть хоть одно движение моей матери… Однажды ночью он попытался бесчестно убить моего отца. Брат выбил у него нож и собирался уже прирезать мерзавца тут же на месте. Но кузнец оказался проворнее… сам бросился на нож брата!
Пузырящаяся пена скользит по ступеням лестницы, отступая… и вновь нахлестывает волна.
Примолкшие, боги наблюдают, рассеянно, за самой древней в этом мире игрою: воды и камня. И светится вино в чаше Тессия.
– Я вспомнил эту историю, Селий, – говорит он, – и… знаешь, пока рассказывал я ее тебе… понял, кажется, какая тут возникает Сила. Да и на что она у людей растрачивается!
Особенно большая волна разбивается в этот миг о ступени.
– Понял, – соглашается Селий.
– И ты созрел для следующего шага, – продолжает летучий бог, выдержав подобающее молчание. – И быстро же научаешься ты ходить, младенец! Когда осознаётся тщета блуждания в лабиринте страстей – ненависти, ревности, зависти… – это значит: приходит время услышать песню о более достойном приложении Силы. Песню о Лабиринте.
ПЕСНЯ
И Селий поднимается со скамьи. Он делает рукою знак «жди», после чего скрывается в отверстии грота и вскоре появляется вновь, но уже с кифарой. Становится на ступенях…
Тессию кажется, что перед ним иной бог, как будто и не знакомый – настолько преображено лицо Селия. Но это не огонь вдохновения. А это нечто иное: это – какой-то особенный внутренний тихий свет.
Летучий смотрит за горизонт, за линию, где соприкоснулись пространства неба и моря. И словно б непроизвольно, словно бы пребывая в рассеянности – перебирает струны…
Сначала он при этом не произносит ни единого слова. И лишь через какое-то время – тихо, ни сколько не интонируя, но как-то неправдоподобно отчетливо – напевает…
И Тессий не один раз потом будет пытаться вспомнить эту песню о Лабиринте. И постоянно какая-то часть ее будет вспоминаться ему, а какая-то – нет.
Возможно, это потому что он скорее видел тогда, чем слышал, о чем ему и морю пел Селий. А с виденным оно так: попробуй помнить во всех деталях и что-нибудь обязательно ускользает. Но впечатление от увиденного сильное, нежели от услышанного. И много более цельное…
Песня о Лабиринте – неповторима. Ни в точности, то есть так, чтобы сохранялись рифма ее и ритм; ни даже и приблизительно, чтобы удерживалась хотя бы полнота ее философского содержания… Сам Селий не сумел бы, наверное, воспроизвести эту песню свою еще один раз. Едва ли осенит на земле и вновь это вдохновенье высот, которых причащается бог лишь в небе!
Воспоминание же Тессия о сей песне, хотя бы более-менее удовлетворяющее его, останется, насколько ему возможно быть выраженным словами, следующее.
И отражается в слове смысл, и множатся отражения.
Они лучатся наподобие света и они текут, как река.
И сталкиваются течения.
И образуются стоячие волны,
И завихрения, и согласованные потоки.
Рождается Лабиринт.
И отражается в самое себя.
И начинается так ТЕЧЕНИЕ Лабиринта.
Как целостное стремление, которое не зависит, уже,
От складывающих его потоков.
И так родится Пространство.
Но и оно отражается в самое себя – и родится Время.
А Время собирается в звезды.
И нескончаемо, тихо и равномерно
Точится из горящих бездн.
Так Лабиринт становится основанием Бездны –
Алмаза более твердого, нежели сама твердь.
И отражается Лабиринт – Бездна –
Во всех потоках, селящихся на тверди.
Поэтому глубок язык моря.
И ветер не забыл песню Первых –
И кланяются ветви деревьев,
Трепещут одеяния и струятся волосы,
И делаются бездонными небеса,
И рвется горизонт, как струна, когда поет ветер.
Но скаредна душа тверди.
Она не допускает в себя играющий Лабиринт.
И воинствует она, как завистница, против Бездны.
И всякая дорога земли – тщета.
И однако… посреди земли – море, посреди моря – остров.
И вот, лишь посреди острова уступает Бездне земная твердь.
Двенадцать отверстий-врат посреди него.
И они же – двенадцать отверстий-стражей.
И разветвляются, словно корни, пути от этих отверстий.
И образуют пересечения.
И ведут глубже, чем корни самого острова.
Те каменные коридоры-пути текут:
Ведь и они есть отражение Лабиринта – Бездны.
И медленное это теченье камня родит огонь.
И движутся во глубине огненные потоки.
И тесно им в тверди камня.
Ведь каждый бы из них мог лететь, словно луч.
И сталкиваются огневые реки, воюя.
И возникают яростные смешения,
И напряженные стоячие волны,
И редки согласованные потоки…
Родится новый – безумствующий и опрокинутый – лабиринт.
Во глубине же глубин самое себя выжигает ярость –
Столь велика она.
Так обнаруживается тщета ярости.
И тесное отступает.
И воскресает, во всей свободе своей, Пространство.
И так она засыпает во глубине,
Глубиною уравновешенная, земная твердь.
Там делается острие иглы тем же самым, что и все небо.
И вечный Лабиринт проступает в новорожденной Бездне.
Вновь отражая собственные пути.
И просыпается Время.
И собирается оно в звезды.
И складываются светила в рисунки смыслов,
Разбросанные по пустоте.
И смыслы возвращаются к Слову.
Аккорд рассеивается… Селий оставляет кифару и, не оглядываясь, идет по ступеням к морю. И белое одеяние покидает его само, как сброшенное на руки ветру, когда проходит он играющую полоску пены.
И Тессий устремляется вслед. А для него все продолжают звучать, пронзая бесконечную даль, струны отрешенной кифары.
Солнце свершило треть нисходящего своего пути; купание возбудило голод и он был утолен устрицами, и вот – друзья неподвижно раскинулись на мелкой и разогретой солнцем прибрежной гальке. Взгляд Селия убегает в небо, доступное только ему и птицам.
– Она подобна расплавленному металлу, – медленно произносит летучий бог, – Сила, ибо она способна быть отлита в бессчетное число форм…
И умолкает. И будто бы хотел он прибавить и еще что-то, но вдруг раздумал произносить вообще какие-либо слова.
– Ты пел чудесную песню, – склоняется к нему Тессий, наскучив ждать продолжения оброненной фразы. – И вот я вспомнил: путь из моей прошлой жизни в теперешнюю лежал по долгому коридору. Прямому, словно струна. И отходили от него в стороны какие-то еще ходы, подобно ветвям от ствола дерева. Свет факелов не разогнал тьмы, что стояла в них, как вода в колодце… Скажи мне, Селий… так это вот он и был, воспетый тобою с такой захватывающей силой… ведь это он и был – Лабиринт?
– Ничтожная его часть, – отвечает летучий бог. – Ты видел камень земной коры, проникнутый сетью сопрягающихся пустот на неимоверные расстояния. Так это лишь один из уровней Лабиринта, Тессий. Но даже он простирается много далее границ Острова. Намного за пределы подводного хребта, центральную из вершин которого представляет Остров… А самые отдаленные ответвления Лабиринта, друг мой, не ведомы никаким богам!
– И также не известен верхний предел его, – продолжает, немного помолчав, Селий. – Некоторые думают, что будто бы Лабиринт ограничен со стороны воздуха двенадцатью в него Основными входами. Заблуждение! Могу тебе засвидетельствовать: во всякий день, когда хватает Силы парить высоко над Островом – пересекаю одни и те же невидимые потоки! Да, небеса имеют свои течения, как и море. И в некоторых воздух восходит, в других нисходит. Я мог бы начертить объемную карту, повествующую о том, как именно располагаются над Островом незримые эти русла. Одни течения теплые, а иные несут прохладу. И всякая такая река имеет свою особенную пульсацию, и еще – когда пересекаю я восходящие, то чувствуется отчетливо запах камня. Неповторимый – я в этом готов поклясться – в каждом отдельном случае.