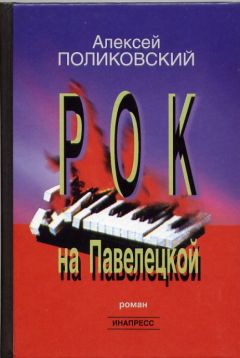– То есть?
– А так. С понтом. Ты что, не знаешь, как это, с понтом? Вытаскивал таблетку и с многозначительным мрачным видом отправлял в рот. Он не клал таблетки на язык, а забрасывал их в разинутый рот. Делал это с небрежным шиком человека, который умеет глотать огонь, стекло и гвозди. Совершал такое резкое движение, – Роки Ролл сделал резкое движение кистью, как будто подбрасывал вверх мячик, – и таблетка, описав пологую траекторию, исчезает во рту. Вслед затем брал бутылку портвейна и запивал, причем голову назад откидывал с гримасой страдания. Кривило его всего прямо-таки от нашего вкуснейшего портвейна! В паузах на репетициях мы ели огромные бутерброды, которые называли трелобитами, из одного батона за тринадцать копеек, разрезанного вдоль, выходило два таких трелобита, и пили вкруговую портвейн, и Мираж все это время глотал свои маленькие розовые таблетки. Он питался седуксеном. Все это знали. Жрал их и жрал. В этом была безнадега какая-то. Мы об этом не говорили. Но было ясно, что все идет к концу. Ну сколько можно безвыходно сидеть в бетонном бункере без окон и делать звук мощностью в три атомных электростанции? Мы были узники замка Иф на Павелецком вокзале! – провозгласил он.
– Слушай, Роки, – сказал я ему. – У меня в голове прошлое двоится, и это, поверь, не от коньяка. Я всегда знал, что вы шизофреники, но все же я ожидал более внятного рассказа о распаде Final Melody. Я понимаю, почему вы там торчали, в этом бункере, но все-таки хочу спросить тебя: чего же вы там торчали, придурки вы этакие?
– А куда было деться?
– Почему концертов не давали?
– Выйти-то было некуда. Вокруг было безвоздушное пространство, Советский Союз, ты что, забыл?
– Это не ответ. В том, что ты называешь безвоздушным пространством, какая-то жизнь существовала все-таки. Underground шумел.
– Какая жизнь, друг, ты очумел? – удивился он и он посмотрел на меня через стол, как на больного. – Все забыл?
– Шестидесятники там резвились со своими бульдозерными выставками, – сказал я. – «Машина Времени» играла. Что-то было все-таки. Подполье какое-то.
– Шестидесятники, ну да, их хлебом не корми, а только дай взяться за руки, чтоб не пропасть по одиночке… – рассеянно сказал он. – Что касается «Машины», то ты бы ещё про хор Пятницкого сказал. Он тоже пел. И тоже чушь.
– Хрен с хором, Роки. Ты не ответил.
– Ответа нет. Наверное, Мираж так понимал рок-н-ролл.
– Как он его понимал, скажи, я хочу знать! Я действительно очень хотел знать, как гитарист, резавший себе вены в приступах мазохизма, понимал рок. Он что-то знал о нем, что-то такое, чего не знал больше никто. Рок, rock, короткое слово, вмещающее в себя столько боли, столько крови, столько молодости, столько прошлого. Рок, шизофрения, гитарный напор, вкус портвейна, Гиллан, поющий Христа, Байрон, поющий July Morning, отчаяние, отчаяние.
– Не знаю. Мы об этом с ним никогда не говорили. Он его понимал в классическом стиле.
– То есть?
– Ну, как Мориссон, Джоплин, как Хэндрикс, как наширявшийся алкоголик Томми Болин… кто там ещё есть из покойников? Покойники хорошо понимают рок. Как способ самоуничтожения. Иначе музыки не получалось. Да и вообще музыка тут не при чем. Тут что-то другое.
– Да, другое, – я понимал его. Он шел тем же путем, что и я: пытался понять, что это такое было с нами в те годы, когда мы дышали не воздухом, а звуком. Что за наваждение. Что за помешательство. Что-то такое, после чего вся последующая жизнь казалась пресной и скучной – даже если приходилось возить миллион долларов в чемодане. – Скажи, что.
– Это как боль, от которой человек кричит. Но крик – не болезнь. Так и музыка – она только крик, а болезнь называется по другому. Я вообще-то плохой философ.
– Запереться в бункере, глотать седуксен и играть музыку перед пустым залом – в этой картинке есть что-то завораживающее. Это и есть рок, да?
– Я не знаю, что такое рок, – сказал он, легко пожимая плечами. – Мираж, наверное, знал. Спроси у него.
– Ладно, спрошу. А Магишен? Он-то куда делся? Ты потом с ним виделся?
– Мы же не были группой, состоящей из друзей, – объяснил Роки. – Весь этот хиповый антураж – просветленные лица, умильные голоса, любовь к ближнему – все это не про нас. Мы делали вместе звук и пили вместе, но это не дружба, а что-то другое. Товарищи по суициду. Мы были по конструкции как атомная бомба – каждый сам по себе не опасен, но когда все вместе, сразу возникает критическая масса и начинается взрывная реакция… Магишен, он… как бы тебе сказать?
– Скажи просто.
– Он сука.
– Приехали! С чего это вдруг он сука?
– Я так считаю. У него всегда была задняя мысль. Он же постоянно бодался с Миражом, кто из них главный. Вредный парень. Он все время гнул свою линию, считал, что все знает лучше всех. Не только в смысле музыки, а в смысле жизни. Гуру. Потом отвалил и не изъявлял никакого желания общаться. Он мне не звонил, я ему тоже. Меня он в свои новые проекты не звал. Я думаю, он считал, что Мираж его сковывает и что в своих сольных проектах он добьется великого. Судя по всему, не добился, – сказал Роки Ролл с жестким удовлетворением. – Не знаю, куда он делся. Я ему не звонил с тех пор.
– А я думал, вы были друзья, – сказал я.
Роки подумал над моими словами некоторое время.
– Ты знаешь, – сказал он, – я тоже так думал. Но чем больше проходит времени, тем сильнее мне кажется, что Магишен был чем-то вроде демона-искусителя во всей этой истории. Звук группы создал он, идеологом был он, он нас во все это вовлек… Он же приехал ко мне на Войковскую и сказал, что создает группу. Сидел у меня на продавленном диване, диван я приволок с помойки, зад почти на полу, колени на уровне лица, делал пассы своими волосатыми руками и рисовал картины будущего… Был тогда в белых джинсах и в синей баскетбольной майке. Он с самого начала видел всю затею целиком, как что-то законченное, что войдет в историю. Может быть, ему нужно было сумасшествие Миража, может, он его запланировал в своих тайных планах. Я не знаю. Магишен был создатель миров, а Мираж простой гениальный гитарист. О себе я вообще не говорю.
– Зачем?
– Что зачем?
– Зачем ему нужно было сумасшествие Миража?
– Говорю тебе, он единственный из нас видел проект целиком, ну, как Господь видит результат еще перед актом творения. Тогда так люди не думали, проектами, Магишен был новатор. Тогда, бывало, с утра нажрешься портвейна, вечером поиграешь на танцах в деревне Дубровка, где все кончится дикой махаловкой – вот тебе и весь проект. Это сейчас, начиная дело, садятся за стол и пишут бизнес-план, в котором сказано, что каждый будет иметь через пять лет: ты платиновый диск, он красный Феррари, я миллион баксов в офшоре… Я допускаю, что он с самого начала знал, чем дело кончится – и седуксен Миража входил в его планы. Он создавал Final Melody как группу, которой надлежит героически погибнуть, пойти на дно с поднятым флагом. Я уверен, он заранее знал, чем все кончится.
– Это ты серьезно?
– Говорю тебе, это я про него понял потом, а тогда я, конечно, ничего такого не думал. Ну раздражал он меня немного, вот и все. Так что можно сказать, что это версия.
– Тебя послушать – он его умышленно накачивал седуксеном. Врач-убийца?
– Да нет, конечно. Каждый саморазрушался на свой лад и по своей доброй воле. Я не то хотел сказать. Магишен точно понимал, что нам нужен герой. Ему это было математически ясно. Он Миража вычислил. Фронтмен, всегда стоящий к публике спиной – скажи, в этом есть кайф!
– Есть. Конечно. Потрясный кайф. Как он это делал!
– Вот-вот. Это придумал Магишен. Сказал Миражу: встань к ним спиной и никогда не поворачивайся. Играй, даже если вокруг тебя рушатся стены! Этот парень все всегда знал, всезнайка был… Может, он и конец наш тоже вычислил…
Он снова разлил коньяк по рюмкам, и мы выпили. Бармен за стойкой перетер все бокалы и теперь стоял, просто глядя перед собой. Стойка и бармен были ярко освещены, а мы сидели на мягком диванчике в темноте, отчего казалось, что бармен – это актер на сцене, изображающий перед нами бармена. Я позавидовал его способности смотреть в пустоту. Он как будто заморозил себя, остановил в себе все жизненные процессы. Возможно, в такие моменты кровь в нем действительно замедляла бег, и процессы старения не шли. Мне захотелось подойти и помахать перед его глазами рукой, проверяя реакции.
– Ты знаешь, я встречался с Басом, – сказал я. – Он передает тебе привет.
– С Басом! – сказал Роки Ролл. – Бас… единственный нормальный человек в дурдоме под названием Final Melody. Скромный, тихий Бас. Что он делает?
– Торгует тетрадками с лотка у Павелецкого вокзала.
Роки сидел, глядя в коньяк, медленно крутил рюмку и ничего не говорил. Потом сказал:
– Печально. Я мог бы помочь ему с работой.
Он сказал это как-то тускло. Энтузиазма в нем не было. Он сказал это для меня – не хотел быть в моих глазах сукиным сыном, которому безразлична судьба старого фрэнда, с которым он играл в одной группе. Я это понял. Мы оба – и Роки Ролл, и я – все время делали поправки на прошлое, все время думали о том, как бы не оказаться ничтожными на его фоне. Не знаю, как нам это удавалось.