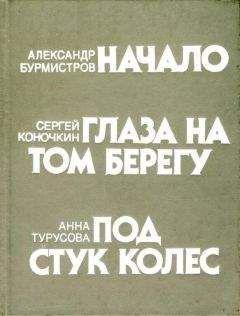— Мне можно быть с вами откровенным? — спрашиваю я.
— Не можно, а нужно, — поправляет меня Василий Матвеевич. — В противном случае разговор наш станет бессмысленным.
Я рассказываю о своем отношении к Марии Серафимовне, о сегодняшнем уроке литературы. Говорю, кажется, слишком обнаженно и горячо, но уже не хочу сдерживать себя. А когда умолкаю, мне становится неловко, что я везде, судя по моим словам, оказался прав, а ведь это не совсем так, иначе почему мне, как и прежде, неприятно и тяжело. Да и бываем ли мы когда-нибудь правы до конца, до последней черточки? Но все-таки я говорю Василию Матвеевичу, как бы еще раз подчеркивая, с особым значением:
— Наверно, я был недостаточно почтителен к Марии Серафимовне. Но я сказал правду. Имею я право говорить правду?
— Конечно же, имеешь. Даже обязан это делать, если ты честный человек, — говорит Василий Матвеевич, — но суть в том, Сергей, что правду надо уметь говорить. И это вовсе не так просто, как кажется. Кроме мужества и нахальства — ум и осторожность нужны.
Василий Матвеевич встречает мой вопрошающий, удивленный взгляд. Тихо, ровно говорит:
— Вот ты перед всем классом заявил учителю, классному руководителю, что на ее уроках вы движетесь вниз по ведущей вверх лестнице. Ты понимаешь, что означает твое заявление?
Я молчу.
— Оно означает, что Мария Серафимовна не только ничего не дает классу, но и вредит ему, — продолжает Василий Матвеевич. — Хуже, страшнее обвинения для учителя быть не может. Вдумайся в это. Может быть, в данный момент это и правда по отношению к тебе или еще кому-то, но по отношению ко всему классу… Ты уверен, что это так? Я, например, не уверен. Даже больше — уверен, что вовсе не так. И далее… Что я должен сказать о тебе после твоего поступка? Что ты наглец? Хам? Это правда? Думаю, что тоже нет. Наглецы и хамы, как правило, трусы, такое они только исподтишка могут сделать, когда уверены, что безнаказанными останутся…
Маленькие, точно заостренные глаза Василия Матвеевича затуманиваются влажным блеском.
— Правда, дорогой Сергей, требует бережного обращения, — голос его по-прежнему ровен и тих, — а если она сказана мимоходом, ради собственного утверждения или со зла, в припадке никому не нужной откровенности — это не настоящая правда. Скорее, это ложь, жестокая ложь, умело, убедительно замаскированная под правду… Ты уж извини меня за слишком высокий стиль.
Василий Матвеевич умолкает на некоторое время, отведя в сторону тревожившие меня глаза.
— Не возражаешь, если я задам тебе несколько вопросов? — говорит он, и не дождавшись моего ответа (вполне понятно, каким бы он был), спрашивает: — Ты много читаешь?
— Раньше — да. Сейчас — меньше.
— Времени не хватает?
— И времени, и книг… хороших. Их ведь все меньше остается — круг постепенно сужается. Да и доставать труднее становится.
— Понимаю, — поддерживает меня Василий Матвеевич и продолжает спрашивать: — Какая из последних книг произвела на тебя особое впечатление?
— Марсель Пруст… «Под сенью девушек в цвету».
— Любопытное название. «Под сенью девушек»… Про любовь, конечно?
— Да, про любовь. Но в особом плане… только под сенью любви.
— Не совсем понятно. Объясни.
— Это когда человек во власти предчувствия любви, — неуверенно говорю я. — Любовь, как таковая, еще где-то впереди, далекая и неузнанная… Например, стоишь под цветущей яблоней, вдыхаешь ее аромат и… не думаешь, просто еще не можешь думать о яблоках, которые когда-нибудь будут на месте цветов.
— Интересно, очень интересно, — кажется, вполне искренне говорит Василий Матвеевич и неожиданно спрашивает: — Как ты думаешь, читала эту книгу Мария Серафимовна?
— Не знаю.
— И я не знаю. Но мне хочется знать твое мнение.
— Наверное, не читала.
— Почему так думаешь?
— Она интересуется только тем, что входит в школьную программу. Все остальное для нее постороннее, чужое, — я встречаю внимательный и, как мне кажется, сочувствующий взгляд директора и доверительно добавляю: — Но ведь так нельзя. Жизнь не может быть замкнута какими-то рамками. Рамки — тюрьма для человека. Или я не прав?
— Прав. Ты совершенно прав, — подтверждает Василий Матвеевич. — Но ты забываешь об одном, очень важном и существенном — рамки, которые ты имеешь в виду, не возникают сами по себе. Они следствие самой жизни. И не только нашей вполне естественной ограниченности, но и достижений наших, которые мы стремимся закрепить, сделать всеобщим достоянием. Вот ты, например, в данный момент восстаешь против ограничений, установленных Марией Серафимовной. Они тесны для тебя, мешают твоему росту. Но придет время, когда из разрушителя ты превратишься в созидателя. И ты создашь свои рамки, пусть более широкие и просторные, чем у Марии Серафимовны, но они будут рамками для кого-то другого, кто придет после тебя. Тебе будет обидно и больно, когда тот, другой, безжалостно станет ломать их, чтобы получить себе необходимый простор. Так было, так есть и так будет.
Василий Матвеевич наклоняется в мою сторону, наваливается грудью на стол.
— Мы, учителя, считаем, что у нас самая трудная работа, — тихо, как бы думая вслух, говорит он. — И не напрасно считаем. Попробуй-ка, втолкуй «разумное, доброе, вечное» десяткам, сотням самых разных, еще не устоявшихся молодых людей! Попробуй-ка быть в курсе всех новых книг, теорий, идей, направлений! Но дело не только в профессиональной трудности. Учитель, и это самое главное, всегда должен быть по-особенному молод, всегда должен быть, — если использовать Пруста (к сожалению, я тоже его не читал, но теперь постараюсь прочесть) — …под сенью девушек и юношей в цвету. Но вся беда, Сергей, в том, что мы, учителя, со временем стареем. У нас, как и у всех нормальных людей, появляются семьи, свои собственные дети, материальные заботы, болезни и неизбежная возрастная ограниченность. И нам некогда уже, как в былые времена, постоять под цветущей яблоней… Это, разумеется, не оправдание для нас, но это факт и с ним нельзя не считаться. Вот так-то, Сергей… Но я не думаю, что мы, старые учителя, никуда не годимся. У нас есть опыт и кое-какие знания. Не только догадки и предположения, а надежные, проверенные жизнью знания. А они не валяются, как ты понимаешь, на дороге.
Василий Матвеевич улыбается, не спуская с меня острых, пытливых глаз.
— Ну, а теперь иди, — говорит он и пододвигает к себе какие-то бумаги. — Рад, что удалось побеседовать с тобой. Жаль только, повод для беседы не совсем подходящий.
Я недоуменно гляжу на Василия Матвеевича.
— А что теперь делать мне? — спрашиваю. — Ведь меня выгнали из класса.
— Вот этого я не могу тебе сказать, — говорит Василий Матвеевич. — Ты парень умный и, кажется, честный… подумай. Может быть, ты действительно прав. А может быть, нет…
5
Часы на моей руке показывают пять минут шестого, когда появляется Лариса. Она в синем узеньком костюме и в туфлях на высоком каблуке. Почему-то мне с особенным значением бросается в глаза, что ее туфли на высоком каблуке, и потому она идет как бы чуть выше земли, не касаясь ее ногами.
Я встаю со скамейки и гляжу на идущую ко мне Ларису, на ее ноги чуть выше земли, на ее рыжие волосы, лежащие на узеньких плечах. Я больше ничего не вижу перед собой. Только то, как она идет, приближаясь ко мне с каждым шагом, и для меня это — единственное, что есть, существует в это время.
— Видишь, не опоздала, — говорит Лариса, останавливаясь передо мной.
— Вообще-то, пять минут — не опоздание, — замечаю я, не удержавшись.
— Я торопилась… просто мне не совсем удалось.
Я гляжу на Ларису и будто впервые вижу ее. Что-то изменилось в ней. Какая-то обновленность в каждой черте лица, в каждом движении, словно я встретил ее после бесконечно долгой разлуки, когда привычное, но позабывшееся кажется впервые замеченным и потому к нему надо снова привыкать, чтобы оно не казалось чужим и недосягаемым.
Мы проходим мимо фонтана, осы́павшего нас мелкими холодными брызгами (настолько мелкими, что их нельзя увидеть), и выходим к Юрюзани. Минуем белый, с решетчатыми перилами мост и углубляемся в городской парк, раскинувшийся у подножья Липовой горы. Идем по асфальтовой дорожке мимо американских кленов и кустов акации с отросшими за прошлое лето беспорядочными побегами — скоро их снова подстригут, накажут за своеволие и желание расти так, как им хочется.
— Что у тебя с директором? — спрашивает Лариса.
— Все в порядке, — говорю. — Побеседовали.
— О чем?
— О Марселе Прусте. И еще о том, как надо понимать правду.
— И тебе ни капельки не влетело?
— Ни капельки.
— Зря, — улыбается Лариса. — Надо бы проучить тебя, чтобы не слишком умничал.
— По-моему, я в основном делаю глупости.