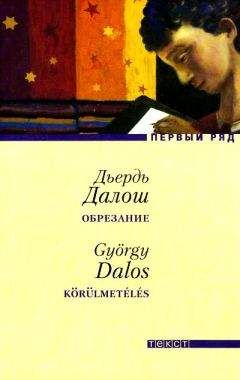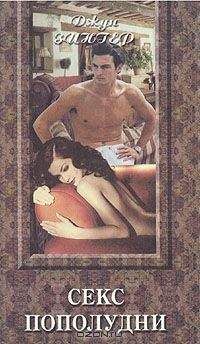И почему Оцель не скажет прямо, что евреи — если это в самом деле они убили Христа — убили своего единоверца? Скорей тут можно уж верить Аннамарии, которая высказалась в том роде, что в истории, происшедшей в Иерусалиме, евреи были не совсем уж безвинны. Дело в том, что, когда Понтий Пилат спросил собравшуюся толпу, кого послать на крест, все в один голос ответили: «Назареянина, назареянина». «Он же простил их, — добавила Аннамария. — И Отца Своего об этом просил, и нас просит о том же. Прощать мы должны всегда и при всех обстоятельствах».
Эта идея, идея безбрежной любви, заставила Роби Зингера глубоко задуматься. Ведь если дело обстоит так просто, тогда что могут иметь друг против друга евреи и христиане, венгры и коммунисты?.. Однажды, когда они с Баллой беседовали об истории, Роби, выбрав подходящий момент, осторожно спросил учителя: не кажется ли тому, что это замечательная идея?
«Идея-то замечательная, — печально ответил Балла, — но ты сам посмотри, что они творят! Из-за того человека, которого они считают спасителем и о котором сами говорят, что он был евреем, они на протяжении двух тысяч лет уничтожают евреев огнем и мечом. Религия любви к ближнему? — горько засмеялся он. — Да, они нас любили: с помощью костров и погромов, лагерей и газовых камер! Нет, не нужна мне такая любовь, не нужно мне такое прощение! Пусть себя простят, если смогут!»
Пожалуй, Балла слишком уж строг к христианам, размышлял Роби Зингер. Что было, то было, но ведь не каждый же виноват в этом. В том, что Иисус Христос сказал на кресте — то есть что люди не всегда ведают, что творят, — тоже что-то есть.
Вот ведь и Аннамария хотела как лучше, когда в то воскресное утро повезла его в Фот, на праздник реформатской церкви. Они ехали на автобусе, погода была чудесная. «Ты увидишь настоящее богослужение, Роби», — сказала Аннамария; то, что происходило в молитвенном доме евреев, верующих во Христа, она считала лишь дилетантским подражанием христианству. И в самом деле: псалмы здесь звучали куда громче, слова проповеди будили гулкое эхо под высокими сводами. Старик священник не расхаживал по рядам, чтобы призвать верующих проникнуться духом откровения Божьего: видно, он всех считал полноценными христианами. При этом он довольно строгим тоном попенял пастве за грехи — какие именно, не сказал — и потребовал от них чистосердечного покаяния. Роби Зингеру этот доверительный тон понравился, а еще больше понравилось то, что, несмотря на укор, звучавший в его голосе, ни один из присутствующих не встал и не удалился с обиженным видом. Роби с Аннамарией переглянулись. «Ну, как?» — шепнула она. «Здорово», — ответил ей, тоже шепотом, Роби, улыбаясь, и спрятал свою руку в теплой ладони Аннамарии.
После службы Аннамария подвела его к группе мальчиков, стоящих перед церковью. «Мне сейчас надо сходить в семинарию, — сказала она, — а ты пока посиди с ними в воскресной школе». И прежде чем Роби успел что-нибудь ответить, исчезла за деревьями. «Ну, уж вот это она зря», — подумал Роби, ежась от дурных предчувствий.
К подросткам подошел все тот же старик священник и повел их обратно в церковь, в какой-то боковой придел. В маленькой, с голыми стенами комнате полукругом стояли стулья; мальчики уселись на них, лицом к распятию на стене; в центре занял место священник. Кроме стульев, в комнатке был еще стол, на нем лежали библии, псалтыри. Сначала все пели псалмы, а Роби Зингер лишь беззвучно шевелил губами; зато когда дело дошло до «Отче наш», он обрадовался: молитву эту он выучил наизусть в Обществе братьев-евреев, верующих во Христа. Но потом он всерьез испугался: священник начал спрашивать у ребят какие-то библейские истории, о которых Роби понятия не имел. Спрашивал он их одного за другим, и ясно было, что скоро дело дойдет и до Роби.
Он ругал себя за то, что послушался Аннамарию и остался в воскресной школе, которая оказалась куда страшнее, чем государственная: ведь там могли обнаружиться разве что какие-нибудь пробелы в математике или географии, а тут сам он, Роби Зингер, представал перед всеми как чужак, который не знает ничего того, что знают все другие. И вот священник в самом деле повернулся к нему и задал вопрос: «Как разделил Иисус хлеб между многими?»
По справедливости, хотел было ответить Роби Зингер, но почувствовал, что вряд ли это правильный ответ. Он покраснел, колени у него задрожали, как это случалось порой в школе. Однако вместо обычного в таких случаях «Я не выучил» он едва слышно пробормотал: «Я не христианин». Остальные смотрели на него в недоумении. «А кто же ты, сын мой?» — ласково спросил священник. «Я хочу сказать, — лепетал Роби Зингер, — хочу сказать, прошу прощения, что я еще пока не христианин, я пока еще еврей».
Он намеренно растянул фразу, чтобы ужасное это слово «еврей», слово, которое так трудно произнести, прозвучало как можно позже. Роби вдруг ощутил, что ненавидит каждый слог, каждую букву в этом слове, которое, даже будучи простой констатацией факта, звучит в этой голой комнате как позорное клеймо. И, только произнеся его, ощутил, что между ним и остальными каким-то образом возникла невидимая, но непреодолимая стена.
Стояла напряженная тишина; потом один мальчик тихонько хихикнул. И от этого, что ли, напряжение отпустило и остальных: еще мгновение, и вся воскресная школа радостно хохотала. Даже сам Роби Зингер, чтобы смягчить мучительный конфуз разоблачения, смеялся вместе со всеми. Только священник остался серьезным — и все более мрачнел, глядя на подростков.
«Что здесь смешного? — вдруг вспылил он. — Не стыдно вам? Евреи — точно такие же люди, как мы. Сядь, сын мой», — кивнул он Роби Зингеру — и задал вопрос про хлеб следующему мальчику.
«Опять у тебя проблемы! — искренне удивился Габор Блюм, когда Роби Зингер рассказал ему про свои сомнения относительно Иисуса Христа. — Ты сейчас, через две тысячи лет, хочешь докопаться, кто там его убил? Этого, старина, даже сам Шерлок Холмс не смог бы уже выяснить!»
Габор Блюм считал, что венгры, евреи, христиане, коммунисты — все это совершенно разные вещи. Самое главное — не пытаться быть сразу и тем, и другим, и третьим, потому что из этого выходят только одни неприятности. Нам с тобой лучше всего оставаться просто евреями, это дешевле всего обойдется. «А что мы русским обязаны жизнью? — спросил он, качая головой. — Ну да, конечно. Только ты на карту, старик, взгляни! Им ведь нужно было до Берлина добраться, а мы у них на пути оказались. Так что им просто-напросто пришлось нас освободить. Кроме того, они и коммунисты-то не ахти какие. Они же все у людей отбирают: лавки, дома, даже кабинеты врачебные. Может, ты забыл уже, — спросил он со строгим выражением лица, — как наш интернат выселили с аллеи Королевы Вильмы?»
Красивая, обсаженная высокими деревьями улица, на которой стояло здание, прежде занимаемое интернатом, когда-то носила имя голландской королевы Вильмы, а потом была названа в честь русского писателя Горького. Никто этому не удивился, потому что к тому времени и улица Терез, часть Большого Кольца, уже называлась улицей Ленина, и другая часть, улица Таможенная, — улицей Толбухина; счастье еще, что хоть улице Клаузаль, где по выходным ждала Габора Блюма дома мать, оставили старое имя.
Все это было давным-давно. А в пять тысяч семьсот тринадцатом году, в месяце тишрей, Балла на уроке закона Божьего рассказывал об исходе евреев из Египта. И вдруг сказал: «Вообще-то нам тоже скоро придется уходить отсюда». Шум поднялся невероятный. Балла, однако, на упорные вопросы воспитанников ответил лишь: одно влиятельное учреждение настаивает, чтобы интернат убрался отсюда, из окрестностей Городской рощи, из этого роскошного трехэтажного особняка, который вот уже полстолетия дает кров мальчикам-евреям, оставшимся без отцов или круглым сиротам. Одна из причин — соседство израильского посольства. Габор Блюм, конечно, уже тогда утверждал: ни о каком учреждении тут речь не идет, просто коммунисты хотят выставить отсюда сирот-евреев, потому что очень им приглянулся прекрасный особняк.
В отличие от фараона, который в свое время всеми правдами и неправдами пытался удержать народ Моисеев в Египте, так что Господу пришлось напустить на него десять казней египетских, данное учреждение очень даже торопило исход, в то время как евреи, против обыкновения, совсем не прочь были остаться.
Говорят, в те дни, где-то перед Йом-Кипуром, дирекция интерната устроила совещание. Кто-то предложил: давайте напишем письмо руководителю страны, который — вот ведь везение! — unsereiner. Имея в виду это счастливое совпадение, можно, как бы между делом, попросить замолвить за них словечко и спасти от выселения. Но тут, говорят, один рабби, древний старик, который, видимо, считал, что терять ему все равно нечего, воздел руки к небу и воскликнул: «Seid ihr Meschugge? Вы с ума посходили? Мало того, что этот мошенник из наших, так мы еще и напомним ему об этом?» Словом, собравшиеся в конце концов отказались от мысли писать прошение.