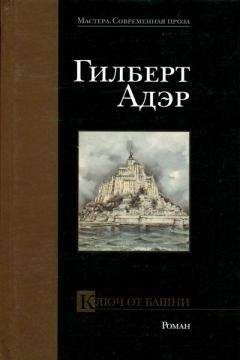После чего я узнал, что Беа уже давно жена Жан-Марка только формально. Они поженились, когда ей не было еще и двадцати. Жан-Марк преподавал в Ecole des Beaux-Arts[51] в Париже, где она, бретонка самого скромного (если верить набросанной ею картине, крестьянского) происхождения, подрабатывала натурщицей.
— Боюсь, это клише, что-то из Пуччини, но такое случается и на самом деле, так что незачем морщиться. Естественно, я была благодарна Жан-Марку, но я его и любила. Даже была влюблена в него. Какое-то время… как мне кажется… — Она сделала очаровательную гримаску. — Теперь уже трудно вспомнить. Все это происходило двенадцать лет назад. В течение двенадцати лет он меня холил и готовил — его любимое выражение. Холил и готовил. И безусловно, с полным успехом. Когда я гляжусь в зеркало, Гай, я вижу двоих: ту, какой меня считает Жан-Марк, и где-то, где-то даже теперь, все эти годы спустя, та, какой себя знаю я.
— Но ведь так чувствуют практически все. Мы дети, переодетые в одежду взрослых.
— Тогда скажем, что я не могу быть благодарной всю жизнь напролет. Есть предел количеству «спасибо», которые можно говорить одному человеку и сохранять искренность.
— А Саша?
— Саша был там. Это особая его способность. Оказаться на месте в нужный момент. Был бы кто-нибудь еще… — Она не договорила и эту фразу, однако добавила: — И это тоже позади, на случай, если вы и об этом хотите спросить.
А я, я невольно задался вопросом: не собираюсь ли я влюбиться в нее? Что за фантазия! Нелепость, да к тому же чисто детская… И все же, даже оставив в покое необычные обстоятельства нашей встречи, романтически-банальный удар молнии (запатентованный фирменный знак судьбы, ее истертый старый ярлык) и обмен автомобилями, моим извинением, моим единственным извинением за подобную мысль был тот факт, тот бесспорный факт, что все мы ведем двойную жизнь. Никто не может подсматривать за нашими любовями и похотливыми желаниями. Никто не может запустить ищеек обнюхивать внутренность нашего мозга. Сексуальное влечение — это то, что астрономы называют сингулярностью. Это черная дыра психики, где первоочередности реалистического императива недействительны. У себя в мыслях, сказал я себе, мне дано делать то, что я хочу.
Мы допивали по третьей стопке. Шепелявый бармен вышел, и мы остались в зале совсем одни. От этих размышлений меня отвлек вопрос Беа, женат ли я.
Женат ли я? Виски ввергло меня в дерзость и бесшабашность. Мне так хотелось рассказать… дать себе волю.
Я помолчал и…
— Я был женат, — ответил я. — Но я убил свою жену.
— Вы убили свою жену? — невозмутимо сказала Беа, воспроизводя мою притворную бесстрастность.
В первый раз я заговорил о смерти Урсулы с кем-то вне стен клиники. Моим друзьям, разумеется, мне ничего не надо было объяснять, а те, кто навещал меня в палате, ни разу не коснулись этой темы. Иногда я ловил их на том, что они подбирались к ней, подбирались почти вплотную, но в последний момент неизменно прядали в сторону.
Это был несчастный случай, полицейская статистика, банальная новогодняя статистика. Единственно не банальным было то, что я ничего не пил. Ни единого бокала шампанского, ни единой кружки пива — ничего, кроме минеральной воды, которую попивал весь обед. Урсула даже пожаловалась, что я перегибаю палку, и на пути домой, положив голову мне на плечо, она снова мне пьяненько выговаривала, и тут произошло это. На границе между Сассексом и Гемпширом вблизи придорожной площадки отдыха примерно в четыре часа дня — я как раз указал ей на потрескавшийся деревянный столб с указателем, увенчанный снежным колпаком. Словно, сказал я, в какой-нибудь из рождественских повестей Диккенса. И вот тут-то я в первый раз увидел сон, который не был сном, когда я впервые услышал визг скользящих юзом покрышек и увидел арку деревьев над нами, увидел снеговика на поле, обмирающего под солнцем, как гвардеец на параде, увидел лицо Урсулы в миг столкновения, лицо Урсулы, на которое я продолжал беспомощно смотреть, когда оно начало раскалываться на нестерпимую паутину разбегающихся трещинок.
— Когда это было?
— Когда? — Мне пришлось напрячь мысли. — Четырнадцать месяцев назад.
Четырнадцать месяцев. Последние четырнадцать месяцев я провел в том, что прежде называли — щадящий эвфемизм, который теперь уже полностью утратил былое умягчающее свойство, — в психиатрической клинике. Четырнадцать месяцев назад я добровольно отправился туда. Согласился подписать стандартное заявление, якобы оставляющее за мной право выбора: сначала я упирался, и меня пришлось уламывать.
«Это же просто бумажка», — сказал директор клиники (клинический, напрашивается слово), протягивая мне свою шариковую ручку.
«Как и смертный приговор», — помню, подумал я тогда.
Но ошибся. Клиника оказалась чудесным местом, расположенным среди сассекских холмов, окруженным заповедными землями Национального треста, главным образом густыми лесами, хотя в саду клиники единственными деревьями были пальмы, такие же безупречные, как эгретки. Ее окна закрывались тяжелыми веками бирюзовых штор, как в манхэттенском особняке, и выходили на восемь акров участка, где никто из обитателей, кроме меня, казалось, никогда не гулял. Там имелись крикетное поле, бильярдная и штат сестер, чья радость и облегчение, что они устроились работать в частной клинике, ощущались почти физически. Они никогда не оставляли меня наедине с собой, днем ежеминутно появлялись в моей палате, чтобы измерить давление, взять на анализ мочу, и оставляли любые другие дела, стоило мне кашлянуть, и даже сопровождали меня рука об руку — меня во всей моей наготе — в мою личную ванную и помогали подняться по трем ступенечкам, чтобы забраться в ванну.
Ко мне был приставлен психотерапевт, доктор Лодер, низенький, всегда щеголевато одетый, чаще всего в джемпере из тонкой шерсти, и с волосатым, завязанным толстым узлом шерстяным галстуком. В отличие от остального персонала, предпочитавшего нестесняющую приятную небрежность.
Вначале говорил только он, блаженно болтая обо всем, что приходило ему в голову. Помню монологи о поэзии Марвелла, о романах Джорджа Дю Морье, об ужении форели в горных шотландских речках, о немногих лондонских отелях, где все еще сервируют добрый старый чай по-шотландски (его выражение), и одному Богу известно, о чем еще. Еще я помню, что только ему одному из всех сотрудников клиники было разрешено держать собаку — фокстерьера, щенка, кобелька с подростковой развалочкой и квартетом пушистых белых лап, которые придавали ему забавно школьный вид и приводили мне на ум какого-нибудь долговязого юного атлета в белых носочках. Звали его Мао — думается, грустная дань десятилетию, когда юный Лодер уповал переделать мир. Я часто встречал их обоих, совершавших оздоровительный променад (еще один лодеризм) в саду клиники.
Заметную часть моего пребывания там мой натранквилизированный мозг не воспринимал толком то, что говорил Лодер, и я ложился спать, ошеломленный состоянием моего рассудка точно так же, как и когда просыпался утром. И все-таки, возможно, именно поэтому его хаотичный режим начал действовать. Быть может, я начал «реагировать» (как было сказано в моей истории болезни, в которую я заглянул тайком), потому что в своем сумеречном состоянии не мог избавиться от убеждения, что Лодер никакой не врач, а просто симпатичный старикан, рядом с которым я случайно оказался — в пивной или в замусоренном зале ожидания на каком-то вокзале, — и он, перескакивая с темы на тему, старается не столько «излечить» меня, сколько, столкнувшись с моим угрюмым аутизмом, заполняет паузы, рождаемые моим антисоциальным молчанием. Если в конце концов я все-таки «раскрылся», как самому Лодеру нравилось — слишком нравилось — определять мою реакцию на его метод (вероятно, потому-то я теперь и касаюсь этой формулировки, не имеющей ничего общего с тем, что я переживал на самом деле, в защитных рукавицах кавычек), то лишь по той причине, что я больше не мог стерпеть, чтобы он вел наши разговоры единолично. Сеанс за сеансом ко мне возвращалась привычка говорить — и наконец я заговорил о смерти Урсулы.
Томас Манн где-то пишет о «привыкании не привыкать». Так вот, когда я покинул клинику, всего за несколько дней до отъезда в Бретань, я ни в коей мере не чувствовал себя «вылеченным» от чего бы то ни было, но, пожалуй, начал привыкать к тому, что не привыкаю к моему нервному срыву — к моей бессоннице, моим снам, приступам головокружения, истощающей апатии. Быть может, я начал ощущать, что вылечиваюсь от ощущения, что я не вылечился.
— Или это ничего не значит?
Я обернулся к Беа, которая слушала меня не перебивая, даже не закуривая сигарету, — а более убедительного доказательства того, насколько она поглощена моим рассказом, я не мог бы потребовать.