— Солоноватая? — удивлённо спросил хозяин. — Да вы в каком же колодце брали? В саду? Да только ж на полив, да скотине ещё.
— А вот в Ложку, — он неопределённо махнул рукой, — да ещё из Логачёва колодца весь край воду берёт. С чего же она могла нынче сгубиться? Вчера приносил — лёгкая вода, хорошая. Да вы попробуйте. Маша! Мария Степановна!
В проёме двери показалась полная, подстать мужу, молодая женщина, смущённо улыбнулась офицеру, полыхнув румянцем ото лба до шеи.
— Встречай, матушка, гостя, а я об остальных попекусь.
— Нам бы, добрые хозяева, — решительно сказал ротмистр, — ведра три картошки, хлебов, ну и соли, что ли. Солдатский желудок не притязателен.
— Будет, будет, — закивал головой хозяин, направляясь к двери.
Ротмистр под возглас хозяйки: "Ой, да что вы, у меня не прибрано!", проворно скинул сапоги, прошёл к распахнутому в сад окну, высоким фальцетом крикнул:
— Кутейников, прими провиант!
В распахнутое окно задувал тёплый ветерок. Он парусил, качал тюлевые занавески, нёс в комнату аромат яблонь, зреющей вишни, медуницы и грубоватую горечь разомлевшей под солнцем полыни. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни. Разомлевший от еды, опившись сладковатого костяничного квасу, ротмистр боролся со сном и невпопад поддерживал беседу с хозяевами. Говорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что мужиков в деревнях не хватает, и бабам трудно будет управляться с уборкой, и что, пожалуй, много поляжет, посыплется зерна, попадёт под снег.
— Вот никак я не пойму, господин офицер, — подставляя гостю блюдце бордовой малины, говорила рдеющая попадья, — на Украине немцы, за Кавказом турки, а мы, русские люди, промеж собой воюем. Как это?
— Все русские, да не все люди. Иные хуже распоследнего турчанина. Большевики, эсеры, меньшевики и анархисты всякие… Кто они вам? Не враги? Хуже. Народ мутят: "Земля — крестьянам, фабрики — рабочим!" На это один может быть лозунг — пороть, вешать, стрелять! Пока напрочь не забудут, что такое Советская власть. Всё дворянство, честная интеллигенция поднялись. Драка идёт нешуточная: иного не дано — либо они нас, либо мы. Эти жернова пострашнее интервенции.
И уже засыпая, боднув перед собою головой, сказал:
— С чужого голоса поёте, мадам, а настоящего пения не получается.
И встряхнувшись:
— Извините. На марше. Не спал давно по-человечески.
— Да-да, сейчас, — засуетились хозяева.
Оставшись один, ротмистр скинул френч и блаженно растянулся на кровати. Он видел, как беззвучно покачивались плотные занавески, играли на потолке светлые блики. Слегка кружилась голова, и он закрыл глаза, на миг увидав белые полные руки попадьи, и стал привычно думать о прошлом, погружаясь в глубокий и сладкий сон.
Минуло два часа. Жара ещё не спала. Солнце по-прежнему нещадно палило землю. Легко пахнувший ветерок принёс откуда-то чистый и звонкий крик петуха. Ротмистр Сапрыкин проснулся с необычайной лёгкостью во всём теле. Тихонько шевелились занавески, по потолку по-прежнему скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Застенчивая, скромная чистота деревенской избы, воздух, наполненный благоуханиями сада, и родной, знакомый с детства голос петуха — все эти мельчайшие проявления всесильной жизни радовали сердце, а горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Где-то вверху, на церковном куполе вразнобой ворковали голуби. В саду слышались голоса, смех.
— А что, дед, ежели я этому крикуну головешку скручу, жалко будет?
— Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то курей жалко? Да мы всё отдадим, лишь бы вы Советы сюда не допустили. И то сказать, до каких же пор терпеть это безобразие. Пора бы уж строгий порядок учинить. Вы не обижайтесь на чёрствое слово, но срамотно на вас смотреть.
— Ну, так я попробую, дедок?
— А пробуй, милай, пробуй.
Слышны топот ног и тревожное клохтанье петуха. Смех и топотня обрываются бабьим возгласом:
— И что же вы удумали! Побойтесь Бога! Вдову, сирот малых обирать. А ты, бес лупоглазый, чего скалишься? Неси свово кочета. Ишь, раздобрился чужим-то.
Снова знакомый голос кавалериста:
— Ужасно глупая птица — петух! Бывало, поспоришь с соседом, чей петя голосистее, у него — так аж прямо заливается, а мой — хоть не проси. А то, как загорланит среди ночи, да норовит под самое ухо посунуться. Нето клевачий попадёт. Ты к нему спиной, а он уже на тебе, норовит в самое темечко, макушечку садануть. Сколько живу на свете — петухов буду ненавидеть. Ишь выступает, паскуда краснохвостая.
— Бойся, паря, — обрадовано сказал кто-то незнакомым баском, — вон он с тылов заходит, стоптать тебя хочет.
— Не-а, для этого дела я ему без надобностей. А клюнет — вмиг башку на бок. Тут уж, тётка, не обижайся, а зови на лапшу.
— А что, мужички, довольно ли барской земли хапнули? Смотри, господин ротмистр у нас строгий, порядок любит — вмиг вместе с душой награбленное вытряхнет.
— "Награбленное"… — передразнил кто-то. — А что ей пустовать что ли, раз барина нет? Кто же вас, защитнички, кормить будет?
— Эк ты как, мужик, рассуждать горазд. Так, ежели хозяина нет, то хватай, кто поспеет. Так что ли?
— Так не так, а так…
— Ну, так ты и к бабе моей подладишься, пока я в седле да далеко.
— Ну, баба не земля, хотя тоже рожаить…
Одевшись, и не встретив хозяев, ротмистр вышел в сад. Ничего не изменилось в природе: так же высоко и плавно кружил над деревней коршун, изредка шевеля широкими, поблёскивающими на солнце крылами, белое с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, по-прежнему стояло в зените, словно и не двигалось, всё также откуда-то с выгона звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонка, лишь слегка прозрачнее выглядела дымка над дальними лесами, и они будто приблизились, обрели грубоватую плотность.
— Красота-то какая! — сам себе сказал ротмистр Сапрыкин.
Переговарились, проходя, мужики:
— … свежая какая-то часть. Что штаны на них, что гимнастёрки, что шинельки в скатках — всё с иголочки, всё блестит. Нарядные, черти, ну, просто женихи.
Заметив офицера, приостановились, внимательно оглядели, поздоровались кивком головы.
"Даже кепки не сняли, — отметил ротмистр. — Избаловался народ".
Спор в саду, тем временем, разгорелся ещё жарче.
— А я так понимаю порядок, — убеждал круглолицый, невзрачный мужичок, — вот ты — солдат, должен быть при винтовке, а я, крестьянин — при земле. И когда этому не препятствуют — такая власть по мне…
Умолк, завидев подходящего ротмистра.
"Чистейшей воды агитация", — подумал Сапрыкин, и в его до самых глубин распахнувшейся ликующему празднику жизни душе занозой угнездилось чувство досады. Говорить он любил и умел. И теперь, собираясь с мыслями, вприщур оглядывал толпившихся в саду селян.
— Мужики-кормильцы, — ротмистр умолк, подыскивая нужное слово, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал, — Глядите, мужики, какое марево над полями! Видите? Вот таким же туманом чёрное горе висит над народом, который там, в России нашей, под большевиками томится. Это горе люди и ночью спят — не заспят, и днём через это горе белого света не видят. А мы об этом помнить должны всегда: и сейчас, когда на марше идём, и потом, когда схлестнёмся с красной сволочью. И мы всегда помним! Мы на запад идём, и глаза наши на Москву смотрят. Давайте туда и будем глядеть, пока последний комиссар от наших пуль не ляжет в сырую землю. Мы, мужики, отступали, но бились, как полагается. Теперь наступаем, и победа крылами осеняет наши боевые полки. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно… Воины мои такие же хлеборобы, как и вы, о земле, о мирном труде тоскуют. Но рано нам шашки в ножны прятать да в плуги коней впрягать. Рано впрягать!.. Мы не выпустим из рук оружия, пока не наведём должный порядок на Святой Руси-матушке. И теперь мы честным и сильным голосом говорим вам: "Мы идём кончать того, кто поднял руку на нашу любовь и веру, идём кончать Ленина — чтоб он сдох!" Нас били, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре коммуняки на первых порах. Но я, молодой среди вас человек, но старый солдат, четвёртый год в седле, а не под брюхом коня, слава Богу, — и знаю, что живая кость мясом всегда обрастёт. Вырвать бы загнившую с корнем, а там и германцу зубы посчитаем. Вернём и Украину, и все другие земли, что продали врагам красные. Тяжёлыми шагами пойдём, такими тяжёлыми, что у Советов под ногами земля затрясётся. И вырвем с корнями повсеместно эту мировую язву, смертельную заразу.
Ротмистр умолк, сорвав на самой верхней ноте голос, откашлялся в кулак и сказал тихо, проникновенно:

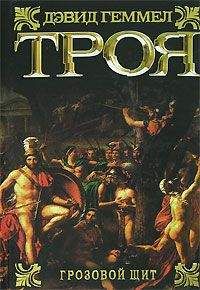
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/25050/25050.jpg)
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/23840/23840.jpg)
