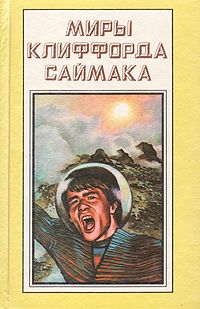Прошу тебя, не насмехайся. Знаю, ты думаешь, что я слишком увлекся и дал волю фантазии. Признаться, на это сравнение звуков с обитателями царства теней меня натолкнули метафизические измышления графини Х. Не то чтобы я принимал их на веру, но, боюсь, в какой-то степени попал под их влияние. Ясно, что для этой благородной дамы тайна немого пианиста находится под покровом еще более густого мрака, чем для нас с тобой, ученых, возделывающих иссушенную, скудную почву эмпирической реальности. Она, без шуток, готова поклясться, что юноша «одержимый» — кем или чем, нам знать не дано, по крайней мере пока, но скоро от графа Х. поступят более точные сведения, а в вопросах, касающихся духов и призраков, его, без сомнения, следует считать экспертом.
В последнее время у меня на приемах разговор только об этом; точнее, она не желает говорить ни о чем другом, в то время как я напрасно пытаюсь перевести беседу в более осмысленное русло. Правда, сегодня мне это впервые удалось, причем благодаря Шопену, который стал моим сообщником, — в общем, снова благодаря представителю этого пресловутого царства теней. Так что в известном смысле я одержал пиррову победу. Однако, под впечатлением от вчерашней игры пианиста, крайне взволнованная, графиня, вместо того чтобы прикрываться призрачным щитом своих теорий, наконец-то рассказала несколько эпизодов из собственной жизни, о которых раньше даже не упоминала и которые, возможно, хотя бы отчасти объясняют, почему ее так влечет к молодому пианисту. Вот, собственно, что она мне поведала…
Я была в Венеции в мае, много лет назад. Не скажу, доктор, сколько времени прошло с тех пор: женщине следует скрывать свой возраст и хранить его в тайне, даже когда, казалось бы, это бессмысленно, вот как в нашем случае. Знаю, вы, коварный, поступили жестоко, записав мою дату рождения в больничной карте, и даже не пытайтесь отнекиваться. Впрочем, подобные вещи меня совершенно не волнуют. Я живу в другом мире, где возраст не имеет никакого значения. К тому же мои самые близкие друзья все старше меня, ну а некоторые гораздо старше.
Так о чем я говорила? Ах да, тогда я была в Венеции вместе с одним другом, человеком, совсем на них не похожим, мужчиной (не могу назвать его господином), который, воспользовавшись моим юным возрастом и неопытностью, сумел покорить меня и потащил с собой в длинное путешествие по Европе; потом в конце концов я разглядела его истинное лицо, он оказался аферистом, проходимцем, мелочным и жестоким, и совсем не умел обращаться с порядочными женщинами. Эта горькая правда открылась мне именно тогда, в Венеции. Умоляю, не просите вдаваться в подробности; достаточно сказать, что его поведение было настолько оскорбительным, что я ни минуты больше не могла оставаться с ним под одной крышей. В слезах я вышла из гостиницы — она была на набережной Рабов, — где мы снимали номер, твердо решив никогда не возвращаться туда, разве что только забрать свои вещи. Впрочем, своих вещей у меня не было: одежда, драгоценности, даже книги — все подарил мне тот негодяй, наивно полагая, что так он сможет купить мое доверие; однако он ошибался, что я ему и собиралась доказать. Правда, довольно неприятно было оказаться в незнакомом городе одной, без гроша в кармане, и я не могла рассчитывать даже на помощь своих могущественных друзей. Представьте, доктор, что вы стоите на мосту, какие в Венеции встречаются на каждом шагу. Смотрите прямо перед собой и видите: мост никуда не ведет, обрывается в пустоту. Тогда вы поворачиваетесь, чтобы идти назад, но там тоже пустота; улица, по которой вы пришли, исчезла, провалились ступеньки моста, пропало все. Куда деваться?
Я догадывалась — куда. Мысль, конечно, рискованная, но в ней я черпала утешение, пока шла вдоль канала, неспешно, шаг за шагом, направляясь к площади Сан-Марко. Я сказала «направляясь», на самом же деле брела наугад, пристроившись к группе туристов. Помню тот странный весенний день: над лагуной низко висели облака и небо казалось задернутым плотной тканью, соборы и дворцы четко вырисовывались на фоне свинцового неба — с мрачной точностью была выписана каждая деталь.
Из кафе на площади уже доносилась музыка. Официант из «Флориана» узнал меня и кивнул в знак приветствия, однако на этот раз у меня не нашлось бы для него чаевых, нечем было даже заплатить за еду, и я притворилась, будто не заметила его, и ускорила шаг; щеки горели от стыда. Я отчетливо поняла, что стала чужой на этой площади. По крайней мере, теперь и в этих обстоятельствах. Мне хотелось побыть одной, и я нырнула в лабиринт узких улочек, которые начинались за Мерчери. Постепенно прохожие стали попадаться все реже, ноги привели меня в ту часть города, где я еще никогда не бывала, но я не чувствовала страха, потому что заблудиться все равно не могла. Сами посудите, как я могла заблудиться, если возвращаться было некуда?
Вот так, с бесстрашием, питаемым горечью отчаяния, я шла вперед, и если бы духи, мои будущие друзья, обратили тогда на меня свой взгляд, пронизывающий время и пространство, то наверняка приняли бы меня за одну из них — настолько все земное стало мне чуждо. И только в горле стоял ком, вроде вязкого, липкого сгустка, он-то и напоминал мне, что я пока еще жива.
Я брела по длинной галерее, пол и своды ее дышали сыростью, — именно тогда я и услышала музыку. Вероятно, я услышала ее гораздо раньше, но не отдавала себе в этом отчета. Музыка доносилась издалека, словно эхо, выплывала из распахнутого окна одного из дворцов — там кто-то играл на фортепьяно — и показалась мне знакомой, бесконечно близкой, щемящей, хотя я и не смогла узнать произведения. Галерея вывела меня на крошечную площадь — названия таких площадей известны одним лишь венецианцам: между домами, плотно пригнанными друг к другу, стена к стене, зажат колодец; я огляделась вокруг, все окна были закрыты. Но музыка продолжала звучать, теперь совсем недалеко, и я вспомнила ее — точно кто-то подошел ко мне вплотную, приблизил губы к уху, отчетливо произнес слово и потом настойчиво повторил его много раз подряд, пока я наконец не уловила смысл. И я вняла зову, покорилась и принялась петлять по узким улочкам, а мосты подставляли мне свои спины; я шла на звуки. Не знаю почему, но я была уверена, что непременно должна выяснить, откуда доносится музыка, это казалось мне вопросом жизни и смерти, будто, обнаружив ее источник, я отыщу дорогу к дому.
Еще несколько шагов, и я поняла: пианист играет балладу Шопена, ту самую, что наш юный гений столь блистательно исполнил вчера вечером. Нет, «блистательно» — не то слово. Когда я слушала балладу, которую играли руки-невидимки в лабиринте венецианских улочек, меня переполняли отнюдь не радость и блаженный восторг. Напротив, мне впервые пришло в голову, что Шопен был жестоким человеком, и эта догадка до сих пор кажется мне верной. Человек, способный сочинить простую мелодию, такую же нежную и чистую, какой была в молодости я, и за считанные минуты провести ее через все мыслимые муки, от которых терзается и трепещет душа, — сами посудите, доктор, разве такой человек добр, благороден, снисходителен? Музыка то замирает, то низвергается в пучину, обрушивается мощью аккордов и стонет от изнеможения, а потом ноты рассыпаются, как бусины с порванной нитки, или мелодия топчется на месте, мечется по заколдованному кругу, словно вертятся шестеренки в механизме музыкальной шкатулки, но вот — стремительный взлет, внезапный всплеск болезненного ликования, эйфория, пропитанная неизбывной меланхолией, и тут невозможно не отдать душу на растерзание, хотя мы знаем, что вот она, бездна отчаяния, совсем рядом, и нас несет в ее глубины… Я и без того была в отчаянии, а когда мелодия стала напевной, задумчивой, печальной, передо мной словно воочию возник призрак загубленной молодости. Заметьте, мне тогда только исполнилось тридцать лет (ну вот я и проговорилась) — возраст, когда, по словам поэта, человек бросается в адский омут и его околдовывают губительные чары мирских иллюзий…
Теперь я, пожалуй, не смогу вам сказать, какие мысли навевала на меня та музыка — о горьких ли разочарованиях и обманах или о несбывшихся надеждах, но она беседовала со мной настолько откровенно и проницательно, точно следила за каждым моим шагом, пока я вслепую брела по улицам Венеции, да и не только по Венеции: она следовала за мной повсюду, не покидала ни на минуту — в театре, на танцплощадках, в казино, в гостиничных номерах, — она стала моей спутницей с того уже давно позабытого момента, когда я впервые почувствовала и осознала боль. Да, именно так; будто иной раз она просыпалась вместе со мной утром и тоже смотрела с горечью и тоской на неубранную постель, на подаренные поклонниками цветы, которые безмолвно вяли и усыхали в вазах, на давнишние, уже успевшие поблекнуть следы губной помады на полотенце… Музыка вытянула из меня силы, и, оказавшись возле собора, я машинально присела на истертые мраморные ступени, ноги подкашивались. Передо мной была площадь, побольше тех, что попадались на моем пути. Разглядывая фасады дворцов, я наконец увидела открытое окно, а в окне, в комнате, погруженной в полумрак, кто-то сидел, я видела профиль, кажется молодого человека, разглядеть было сложно, — неподвижная голова и плечи, мерно покачивавшиеся в такт музыке.