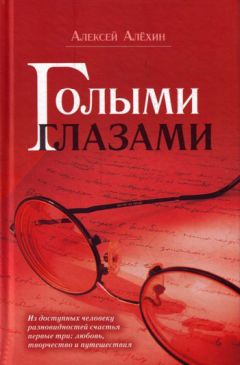желтые стены
оливы соль на губах солнце
следы башмаков Ван Гога
развалив великую цивилизацию
варвары
поселились на ее камнях
и живут показом руин любопытным туристам
и продажей цветных открыток
на картине
в папской коллекции
апостолы с Христом за тайной вечерей
едят колбасу
под мостом
белобрысый флейтист в драных шортах
импровизирует
вдохновляясь видом дворца через реку
просто так
крепость
вся состоит из кафе и цветочных лавок
в неприступных стенах
обычное дело
художники и писатели облюбовали Сен-Тропе
в 20-е годы
прельстившись морскими видами
и дешевизной жизни в рыбачьем городке
после войны
за ними потянулись кинознаменитости
а там и миллионные яхты
торгуясь за место у причала перед зеленой статуей
адмирала Суффрена
флаги
черное в белых завитках море в заливе
мачты во много рядов
не надоест разглядывать их из-за столика возле воды
краснорожий миллионер
в жеваных шортах и со стаканчиком чего-то мутного в руке
с борта своей трехпалубной «Леди Элен»
любуется мной
или вернее видом кафе
где я сижу за десятифранковым пивом
у трапа
команда в белой с золотом форме
в лакированном нутре парусной лодки
девица
пьет воду со льдинкой и долькой лимона
вся Библия
уместилась в еврейском местечке
с его невыдуманными Авраамом Давидом Лазарем
шорником пекарем кузнецом
беспутной Раав
и даже Ноевым ковчегом на скрипучих колесах
отбывающим на ярмарку
после
будут и римляне в кожаных куртках
похожа на большую Ялту с дореволюционных открыток
и населена стариками
в белых холщовых костюмах и брезентовых туфлях
с кожаными носами
какие носили тогда наши деды
а еще
ушедшими на покой любительницами долгих карточных игр
цветочные корзины мрамор бронза стекло
по пляжам
бродят негры со связками стеклянных бус и латунных
браслетов
время от времени их покупают белые дикари
с намытой вдоль берега полосы
беспрерывно взлетают и блеснув на солнце
акульим брюхом уходят в сторону моря
самолеты на Рим Афины Лондон Стамбул
увозя в пляжных сумках крупицы золотого воскресного
песка
Август – сентябрь 1989туркменские старики
как бы потрескавшиеся на солнцепеке
с белыми и плоскими одинаковыми бородами
будто привязанными к бритым кофейным лицам
в одинаковых курчавых шапках
и пропыленных коричневых хламидах
так похожи
что кажется: повсюду встречаешь одного и того же старика
и при встрече
он протягивает тебе все ту же
пересохшую глиняную ладонь
Ах, горпарк.
Изумрудный оазис в этой скучнейшей из столиц.
Приманчивый парадиз с прохладными туннелями аллей.
С обнаженным солнцу свежевыметенным променадом в стриженых кустиках и цветниках, где ирисы уже распустились, а розы только еще готовятся, и в воздухе растекается сырой запах намеревающихся раскрыться бутонов.
С плющом, всползающим до вершин по старым ветвистым стволам.
И с другими деревьями, обрезанными до корявых культей, из которых уже брызнула в воздух светлая молодая поросль.
С нагретым воздухом клумб, то и дело пересекаемым вспархивающей птицей.
С белоснежными, как в раю, фигурными столбиками балюстрад и статуями спортсменов и спортсменок, принимающих в зелени воздушные ванны.
С золотящимися на солнце волосами женщин, прогуливающих свои коляски.
С отзвуками далекой музыки, наплывающей со стороны слоями, как табачный дым.
Есть смысл провести тут целый день, пока не окончится вечерний сеанс в летнем кинотеатре и через парк потянутся парочки.
И под темнеющим похолодавшим небом пиджаки парней начнут постепенно переползать на плечи девушек, пришедших в легких платьях.
Останки древней Нисы, замкнутой в неприступное кольцо глиняных бастионов. Многометровый круглый холм, вручную натасканный смуглыми человеческими муравьями.
Там, где в тесной листве утопали храмы и дворцы, дымили мастерские. Где в двух прохладных прудах, обрамленных высокой зеленью, поблескивали ленивые рыбы, а по берегам расхаживали и вспархивали на ветви, вспыхнув оперением, диковинные птицы. Куда со всего обозримого мира стекались, позванивая бубенцами, верблюжьи караваны с вьюками разноплеменных даров и плодами земли. Где в подвалах хранились тысячи кувшинов с винами, снабженные глиняными табличками с указанием места и года сбора. Где в соединенных сводчатыми переходами жилищах готовилась пахучая еда. Где в круглом купольном храме никогда не угасал священный огонь и бесконечной красотой своей наполняла сердца теплом парфянская Венера. Где в двухъярусном дворце льющийся через световой люк солнечный конус озарял ковры со строгим узором, высвечивал дольчатые колонны, двухметровые статуи обожествленных предков в нишах, блистающие золотом уборы послов и несравненной красоты одежды всесильного государя. Где расплавленным золотом залили ненасытную глотку наголову разбитого Красса, а значки поверженных легионов развесили в ногах милостивых и могучих богов. Где плелись придворные интриги и возносились и падали временщики. Где стража в меди и бронзе день и ночь оберегала стены твердыни. Там теперь лишь отлогие холмы, поросшие жухлой травой с зелеными бородавками мелких кустиков, обрызганные алыми каплями расцветших маков. Да перелетают, присаживаясь на выступившую из земли оплывшую сырцовую кладку, две бирюзовые, неземного отлива, птички: словно весточки из погребенных под слоем почвы былых садов.
Сидя на потерявшей очертания гряде, бывшей некогда могучей стеной, грубо замешанную глину для которой тысячи рабов таскали по жаре в плетеных корзинах, можно покурить, любуясь руинами былого величия. Или, забыв о парфянах, смотреть в другую сторону, где до самых отрогов Копетдага зеленеют квадраты полей, разделенные вереницами ветрозащитных посадок, и тарахтит колхозный трактор.
В здешний пригородный колхоз заехал корреспондент прогрессивной парижской газеты.
Многоопытный председатель показал ему виноградники и человека с мотыгой, заработавшего с семьей двадцать пять тысяч рублей в минувшем году.
Журналист мысленно перевел рубли по курсу во франки, сказал «о!» и записал поразившую цифру в блокнот.
Не догадавшись поинтересоваться, отчего же крестьянин выглядит так, словно получает рубль в месяц.
И сколько в семье виноградаря душ.
громадный автопортрет
французского художника Винсента Ван Гога
воспроизведенный смелой кистью
целиком занимал весь торец пятиэтажного блочного дома
при въезде в Чарджоу
я восхитился
и не враз догадался
что рыжебородый скуластый импрессионист
с прищуренным глазом —
Ильич
Северный человек скоро привыкает к здешней жаре, превозмогая ее напором и волей.
Но на четвертый примерно год сдает. Организм, устав бороться с варварским климатом, разлаживается.
Сердце, неврозы.
Портится даже характер.
Кто не уезжает, вновь приходит в норму – на 8-й или на 10-й год.
Но при этом меняется сам.
Замедляется походка. В повадке является спасительная ленца.
Словом, превращается в аборигена.
каракумская сирень…
это тамариск цветущий по сторонам дороги:
от белого
чуть желтоватого
до розового и фиолетового
самых чистых тонов
поселок в пустыне
ни прутика
посреди улицы на раскаленном песке
восседает старуха
взирая на подернутый маревом мир
запеченный в золе полумесяц
туркменского пирога
водку зовут: «иван-чай»
на громадном брезенте
разделывают окровавленную верблюжью тушу
распластавшуюся как цыпленок табака
рябые пески Каракумов
молодые женщины
вышагивают в синих красных зеленых платьях
держась так прямо
будто несут невидимую поклажу на головах
ночью сходит прохлада
на освещенных луной широких полатях перед домами
накрывшись большим лоскутным одеялом
спят дети
их лица так ясны и спокойны
что хочется подойти и поцеловать