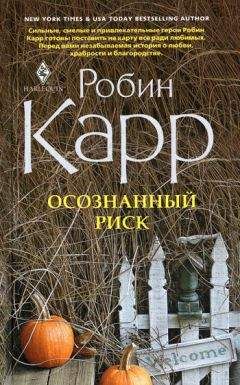Потом, когда я уже сидел со стариком Коганом, прилетел вертолет. Он грохотал примерно с полчаса — казалось, над самой крышей, — и это, вкупе с недосыпом, мешало сосредоточиться.
— Вот, — в ответ на вопросительный взгляд старика я пожал плечами и ткнул пальцем вверх, в потолок, — разлетались, черт бы их побрал…
Коган недовольно поднял брови, и мне стало стыдно своей черствости: все-таки человек пропал.
— Ищут, — добавил я. — Арье Йосефа ищут — того, кто к вам вчера шел и не дошел. Вы его хорошо знали? Ээ-э… знаете?
— Ищут… — мрачно повторил старик. — Ищи ветра в поле. Давайте не будем отвлекаться.
Я снова пожал плечами. Ищи ветра в поле? — Странная реакция. И неожиданная — как будто ему известно что-то важное, недоступное другим. Впрочем, мои попытки предсказать или даже просто истолковать ответы старика Когана редко бывали удачными. А некоторые загадки так и вовсе пробуждали во мне нешуточное любопытство — например, брат-близнец, упомянутый вскользь, почти случайно, и тут же вновь испарившийся из рассказа.
После ареста и бесследного исчезновения родителей шестилетнего мальчика взяла к себе подруга матери, известная балерина Гусарова. Старик Коган подробно описывал ее квартиру, прислугу, тогдашний быт вообще, но ни словом не упоминал брата Густава. Воспользовавшись паузой, вызванной шумом от вертолета, я решил прояснить этот вопрос, а заодно и продемонстрировать похвальную заинтересованность.
— Эмиль Иосифович, а что произошло с Густавом, вашим братом?
Старик поперхнулся и метнул на меня быстрый взгляд.
— Откуда вы знаете о брате?
— Ну как же, — удивился я. — Вы сами говорили позавчера, что остались вдвоем в квартире на Адмиралтейском…
Он неуверенно поерзал в кресле, а я удивился еще больше: мне еще никогда не приходилось видеть старика Когана таким смущенным.
— Видите ли, Борис, — произнес он наконец с несвойственным ему выражением крайней задумчивости, — люди вообще мало что помнят из дошкольного детства, особенно если потом жизнь резко меняется в направлении… гм… как бы это определить?..
Старик задумался, так и не найдя нужного слова.
— …наполненности? — осторожно предположил я.
— Что? — Коган вздрогнул, словно вернулся ко мне и к нашей беседе из очень и очень дальнего далека. — Что вы сказали?
Я повторил его фразу со своим дополнением.
— О, да, наполненности, — подтвердил он. — Наполненности. Но это потом. А тогда, ребенком… брат-близнец — это, наверное, как часть тебя самого, как твоя собственная рука, или нога, или кроватка, или соска, или еще что-нибудь такой же степени обыденной важности. Возможно, поэтому его присутствия не замечаешь.
— А его отсутствия?
— Отсутствия… — задумчиво повторил старик Коган. — Видите ли, к Анне Петровне Гусаровой я попал один, без Густава. Тогда-то я, наверное, и обратил внимание на его отсутствие.
— И?..
— И спросил об этом, — старик побарабанил пальцами по столу. — И тетя Аня ответила, что Густава никогда не было. Просто не существовало. Что я придумал его сам. Знаете, дети в таком возрасте часто изобретают себе воображаемых приятелей.
— А! — рассмеялся я. — Теперь все ясно. А я уж было поверил…
— Да-да, — покачал головой старик. — Мне тоже пришлось поверить. В конце концов, мне тогда только-только исполнилось шесть лет. Я был до смерти напуган арестом родителей… вернее, даже не арестом — разве шестилетка понимает, что такое арест? — не арестом, а уводом — грубым, насильственным уводом, похищением, потерей. Это ведь вечный кошмар маленького ребенка — потеряться, лишиться матери и отца, остаться одному. А тут — взяли под руки и увели — бледных, плачущих и несчастных…
Он посмотрел на меня, и я разглядел в его выцветших глазах тень того ужаса восьмидесятилетней давности. Мне стало не по себе. Старик Коган моргнул, и наваждение исчезло.
— А в общем, что тут объяснять, — произнес он своим обычным голосом. — Анна Петровна была для меня непререкаемым авторитетом. Если она утверждала, что Густава не существует, мог ли я ей перечить?
Я разочарованно кивнул. Увы, таинственный брат-близнец оказался всего лишь пшиком, детской фантазией. У моего маленького сына тоже был когда-то воображаемый друг, с которым он вел нескончаемые беседы. Друга звали Дуди, и он жил в стене напротив детской кроватки. Правда, друг — это одно, а брат-близнец все-таки…
В кармане дрогнул и задребезжал пейджер.
— Вот же черт! — подосадовал я. — Эмиль Иосифович, я чувствую себя ужасно неудобно, но — сами понимаете… — вынужден…
Старик отчужденно пожал плечами. Видно было, что разговор о Густаве серьезно выбил его из колеи. Я включил мобильник и набрал номер Вагнера.
— Что, опять?! Через десять минут, с метлой, у дома?!
— У какого дома… — угрюмо отвечал равшац. — Разбаловал я вас. Такси ему подавай… видали?
В трубке слышались истошные вопли и мерное скандирование. Телевизор? Радио в машине?
— Вагнер, — сказал я. — Говори, чего надо. Я ведь занят, Вагнер. Говори. Только не дай Бог это какая-нибудь учебная тревога, Вагнер. После вчерашнего мы тебя точно не поймем.
Он хмыкнул.
— Какая учебная… Встретишься с Питуси и Бендой у спуска в вади. Через десять минут, с метлой, как положено. А дальше ножками, ножками — пока не увидите. Я Питуси все объяснил. Он за старшего.
— Пока не увидим чего?.. — успел спросить я, но Вагнер разъединился, не ответив.
Когда я подошел к указанному равшацем месту, там уже переминался с ноги на ногу Беспалый Бенда. Увидев меня, он радостно осклабился.
— Как делы, Борис? Что ты на это скажешь?
— На что именно? — спросил я, опасливо косясь на старика Узи, который зловеще покачивался на ремне за спиной Бенды.
В душе у меня теплилась надежда, что Беспалому известна причина нашей экстренной мобилизации. Мой товарищ по оружию восторженно хлопнул в ладоши.
— Начальник отдела коммунального хозяйства! Ну, ты знаешь, — Гидон Мизрахи! Ведь что учудил, маньяк…
Я отвернулся и перестал слушать. Время приближалось к полудню; юный поутру воздух успел возмужать и утратить свою прежнюю невинную прозрачность. Теперь он полнился испарениями проснувшейся от дождя почвы, жадными до жизни спорами растений, душным сладковатым запахом неизвестно каких кустов, звоном пчел с ближнего яблочного цвета. Бенда продолжал самозабвенно бубнить у меня над ухом, старик Узи примеривался, как бы поточнее упасть, чертов Питуси все не шел и не шел. Асфальт в десяти метрах от нас — там, где утром стояли армейские джипы, — казался рябым от окурков и шелухи.
— Как делы? — завопил Беспалый, резко поменяв тональность своего бубнежа.
Я обернулся. К нам неторопливо, вразвалочку, приближался садовник Питуси. Его презрительно оттопыренная верхняя губа цепляла с неба редкие пушистые облачка, и те немедленно тускнели и таяли от сознания собственной ничтожности. Рядом с садовником мелкой побежкой трусил его пес — пожилой боксер Рокси. Видно было, что собака изо всех сил старается копировать выражение хозяйского лица. Не размениваясь на приветствия, Питуси сделал знак следовать за ним и стал спускаться по тропинке. Бенда тут же присоединился к нему, зато мы с Рокси и не подумали покидать ровный асфальт без надлежащих объяснений.
— Эй, Питуси! — крикнул я. — Так не пойдет, слышишь? Опоздал на полчаса, а теперь просто «за мной» — и все? Генерал, мать твою. Сначала расскажи, что к чему.
Питуси остановился и глянул на нас через плечо.
— Шапиро приехал со своими маньяками, — неохотно процедил он, обращаясь преимущественно к псу. — Балаган устраивают.
— Ну а мы тут при чем?
— Как свидетели. Вагнер приказал. Не хотите — не ходите, мне-то что. Потом с Вагнером сами разбираться будете.
Питуси презрительно сплюнул и двинулся дальше. Беспалый Бенда увивался за ним, не умолкая ни на минуту. Я посмотрел на Рокси.
— Слышал? Ты можешь не ходить. А мне надо. А то Вагнер разозлится.
Пес тяжело вздохнул, словно говоря: мне бы твои проблемы, и, подрагивая обрубком хвоста, последовал за хозяином. Я замыкал нашу боевую колонну. За неимением хвоста мне приходилось выражать свои чувства при помощи бессильной ругани.
Упомянутый садовником Шапиро возглавлял организацию «За урожай». Невзирая на свое сугубо сельскохозяйственное наименование, организация преследовала чисто политические цели: борьбу с оккупацией — то есть с армией — и с фашизмом — то есть с нами, поселенцами. Земледельческие же мотивы, отраженные в названии, находили свое выражение лишь в методах, которыми пользовались заурожайники.
Обычно они приезжали в какую-нибудь арабскую деревню и, найдя старика подревнее и посенильнее, принимались его обрабатывать. Шапиро доставал земельные карты неизвестного происхождения, разворачивал их перед стариком и начинал доказывать, что именно он, старик, является истинным хозяином того или иного участка земли, а потому просто обязан снимать с него урожай. По интересному стечению обстоятельств, участок непременно оказывался в непосредственном соседстве с близлежащим израильским поселением, а то и внутри него.