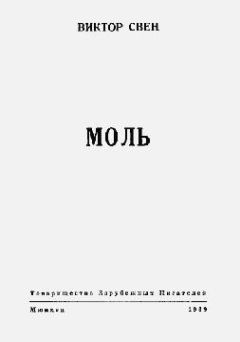А Нововойтов был жив. Он отодвигался от людей, спасался от чужих глаз и уходя в какое-то свое, болезненное одиночество, очутился, наконец, вне Москвы, прибился к древнему подмосковному городищу, может быть не соображая, что это Кунцево. Здесь, в месте, вошедшем в русскую историю под названием «Сетунекий стан», он как бы прижился к пустому берегу Москвы-реки, даже не к берегу, а к одному камню на нем. К этому камню, обычно, он приходил рано, чуть ли не на рассвете, и стоял, наблюдая за поднимающимся солнцем. Он не обращал внимания, что ветер, казалось, старается оторвать пустой левый рукав от изношенной и очень грязной шинели. Он следил за солнцем. Когда оно взбиралось высоко, он усаживался на камень, смотрел прямо перед собой и только на воду. Где-то часам к десяти-одиннадцати сюда, по обрыву, спускались мальчишки. Озорной и дерзкий народишка, мальчишки пристраивались около Нововойтова и тоже, с явно не детской серьезностью, устремляли задумчивые взоры туда, куда смотрел чудной старик. Потом кто-то из мальчишек осторожно подкрадывался к однорукому барину и совал в карман его шинели ни во что не завернутый кусок черствого хлеба. К хлебу иногда прибавлялась луковица. Когда же застывшие глаза Нововойтова поворачивались к мальчишке, тот быстро-быстро кланялся и убегал к своим компаньонам, тоже начинавшим издали кивать головёнками. Затем мальчишки исчезали по своим неотложным делам, а старик, поднявшись с камня, щурился, словно стараясь припомнить что-то очень нужное. Это ему, видимо, не удавалось, и он опять опускался на камень, всем чужой и обо всем забывший. Во всяком случае те, кто пробовал заговорить с ним, скоро убеждались, что старик видит и знает лишь сегодняшнее. Что было когда-то, на прошлой неделе, то для него уже не существовало… И вот надо же было — и совершенно случайно — одному из сотрудников МУРа заглянуть в архив и там обнаружить пустяковый донос на старушку Елену Петровну Нововойтову, на личность «классово чуждую». Донос заставил задуматься: а не имеет ли к ней отношения тот странный помешанный однорукий генерал, обычно сидящий на камне у Москвы-реки? Весьма правдоподобное предположение завершилось тем, что однажды утром два милиционера и оперативный уполномоченный отправились на розыски и без всякого труда обнаружили старика. Сидел он, как всегда, на камне, сгорбившись, опустив голову на правую руку. Левый его, пустой рукав трепал ветер. Оперативный уполномоченный подошел к камню и спросил:
— Вы — гражданин Нововойтов?
Старик ответил не сразу. Подняв усталые глаза, он некоторое время шевелил губами и только потом утвердительно кивнул головой.
— Вам известна Елена Петровна Нововойтова?
Старик прищурился и принялся тереть лоб своей единственной рукой.
— Елена Петровна Нововойтова… Елена… Петровна… Нововойтова, — раздельно и громко повторял уполномоченный, наблюдая, как в глазах тихо помешанного зашевелилась живая мысль.
— Мама, — вдруг прошептал старик.
Оперативный уполномоченный помог ему подняться с камня. Затем его усадили в старенький форд.
— Ну и что? — задали вопрос уполномоченному в МУРе.
— Это его мать…
Форд двинулся по адресу доноса, и минут через сорок остановился у деревянного домика. Уполномоченный первым выскочил из автомобиля. Милиционеры, со стариком, подошли к калитке уже тогда, когда уполномоченный стучал в дверь. На стук выбежала молодая разбитная и очень краснощекая для Москвы тех лет баба.
— Чего грохочешь? — накинулась она на уполномоченного. — Вселены сюда по ордеру.
— А где гражданка Елена Петровна Нововойтова?
— Тут. Да только какая она гражданка? Буржуйка. Генеральская. И к тому живучая подлюка: до девяноста лет дотянула и не подыхает!
— Замолчи, дура! — крикнул уполномоченный.
— Чего молчать! — заверещала баба. — Я что: лишенка? Я бы такую буржуйку своими руками удавила. Вот так: хрясь, и всё!
Вряд ли смысл этого разговора дошел до сознания старика. Даже когда его с рыданием обнимала Елена Петровна Нововойтова, он оставался совершенно равнодушным. И лишь на какой-то миг, видимо, к нему вернулась память. Он прикрыл глаза рукой и… опустил ее, глядя на слезы матери с тупым недоумением.
Генерала Нововойтова всё же оставили в маленьком деревянном домике. Прожил он там недолго. В одно утро он исчез. Вы спросите, Владимир Борисович, куда? В свое одиночество, на берег Москвы-реки. Он продолжал там сидеть на камне, и смотреть на воду с зари до зари. Никому он не мешал и никому он не был нужен. Только мальчишки обрадовались и по-прежнему навещали его. А потом… Да, как-то однорукий барин, не дойдя до камня, упал и не поднялся. Мальчишки кинулись за помощью. Появилась милиция, старика взяли, доставили в МУР, а оттуда — переправили в какой-то старческий дом, под Киевом. А затем — перевезли в такой же приют, на Дону, где-то около Батайска.
— Дальше что? — спросил Кулибин.
— Приют был дальше. Приют! — почти закричал Решков. — И в этот приют — кого? Нет, я не против приютов. Пусть там доживают свои дни… Только не Нововойтов! Приют не для него. Для него. Тут что-то я путаю, Владимир Борисович, не знаю, но нельзя… он, этот однорукий старик, он особенный, иной, другой. Вы можете усмехнуться: особенность его в том, что он помешанный и утративший память о прошлом, больной. Согласен: Нововойтов больной. Но он болел одиночеством, стремился к нему, жил в нем, медленно умирая. Сначала на берегу Москвы-реки, потом — Днепра, а еще потом — Дона. И когда однажды утром донские рыбаки наткнулись на старика Нововойтова — они испугались: до того жутко набегала легкая волна на лежащие на песке худые, посиневшие, уже мертвые пальцы единственной правой руки, чтобы потом — отхлынуть назад, и после тихого раздумья вернуться к бывшему барину, генералу, левая рука которого была оторвана где-то в Мазурских болотах.
Автор убежден, что эта беседа Решкова с Кулибиным является как бы прологом к тому, что — и скоро — предопределит судьбу Суходолова, а потом приведет к трагедии Решкова. Это убеждение и заставляет Автора показать, как —
Профессор Воскресенский вошел в действо
Может быть потому, что Решков боялся заглядывать в свою душу, он прятался в тень чужих судеб и находил болезненно-щемящее наслаждение от прикосновений к чьей-то просыпающейся совести.
Чужая совесть не давала ему покоя. Сам, так ему казалось, свободный от смущений, он со сладострастием следил за терзаниями других, всячески разжигая их внешне пустяковыми разговорами, причем сам себе отдавал отчет, что всё это — похоже на примитивную провокацию, в результате которой предстоит чье-то крушение, гибель, катастрофа.
Для чего ему это было нужно? Не отвечая на этот вопрос, Автор всё же должен заметить, что есть люди, которых радует чужая беда. К числу их, видимо, принадлежал и Решков, в последнее время ставший пристально наблюдать за своим помощником Суходоловым.
В том что Суходолов, совершенно честно примкнувший к революции и уверовавший в нее, идейно шатается, Решков не сомневался. Он совершенно отчетливо видел, что Суходолов лишь по инерции продолжает цепляться за остатки своей веры, как делает это гибнущий человек, инстинктивно пытающийся хоть на мгновение продлить свою жизнь.
Простой бесхитростный Суходолов со своим смятением тянулся к Решкову, к умному человеку, к бывшему студенту, у которого много красивых слов и уменье отвечать на серьезные вопросы.
Суходолов не видел настоящего Решкова, он признавал его близким себе и нужным, готовым не только помочь в трудную минуту, но и указать правильный путь. В этом он очень нуждался. Чем дальше шло «углубление революции», чем беспощаднее, по-якобински, действовали чекисты, выполняя приказы Ленина, тем чаще и чаще задумывался Суходолов о себе, о своем месте в жизни, о будущем. Раньше для него всё было как-то просто. Он мог спокойно сидеть перед Решковым и говорить: «Устроим порядки в России, потом у соседей, у чехов, к примеру, потом у тех, кто подальше, у французов и французских соседей. До порядка во всем мире. И чтоб всюду были органы. Чека чтоб обязательно была. Такова моя теория».
А вот теперь такое он уже сказать не может. А почему, и сам не знает. Нету теории, и вроде бы на открытом месте стоит он и не понимает, в какую сторону двигаться.
— Службу я исполняю, — признавался Суходолов, и вроде за милостыней протягивал Решкову руку. — А вот для чего вся эта служба чекистская? Правды я в ней не вижу, Леонид Николаевич. Прежде правда выглядывала. Ну, там забота о светлом счастье для всех. К той правде потянуло и меня, крестьянского сына. И других. А чем шире мы зашагали к правде, правда и потонула в человеческой крови. Вот это и страшно, Леонид Николаевич. И мне, понимаете, иногда кажется… ну, вот там товарищ Ленин, и другие вожди, ну, те, кого товарищ Ленин хвалит, что они профессиональные революционеры, строители нового мира, что-то не честно делают, зря уничтожают людей для ради какого-то грядущего светлого будущего. Думается мне, Леонид Николаевич, что революция — это не профессия, это дело душевное или сердечное, а главное — правильное. А когда всё это объявляют профессией — тут не то! Тут, Леонид Николаевич, профессионалы всё делают для себя, для себя всего добиваются. Это я вижу кругом, Леонид Николаевич: профессионалам ладно живется, а вот людям… Выходит даже так, что вокруг профессиональный обман. Только зачем — не понимаю. Чувствую обман, подготовленный теми, кто сидел где-то там по заграницам, ожидая своего часа, момента, что ли, чтоб обман принести сюда, превратить его в Октябрьскую революцию и начать свободную и счастливую жизнь для профессионалов при помощи чека и с разговорами о «новом мире». А кому он, такой «новый мир» нужен? Можете вы ответить, Леонид Николаевич, кому он нужен?