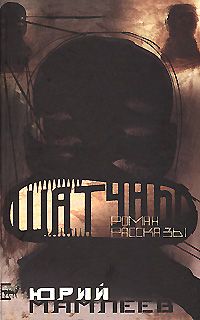Пырь тренировался, бросая большой топор в дерево. Иоганн, скрючившись, вынул из кармана коробочку с жучками и стал иголкой препарировать их, разделяя на части. «Золотые руки» говорили про него. Он делал это так, как будто разбирал стихи, написанные на древнем языке.
Все застыло в таком одичании.
Прошло час или два. Вдруг тишину нарушил истерический визг деда Коли, раздавшийся из закоулка за сараем.
Все разом вздрогнули, но не сразу очнулись. И только когда визг превратился в вой, медленно, нехотя все стали вставать со своих мест. Все, кроме Клавы, Пыря и деда Коли, которых не было видно. Даже Анна проснулась и вышла во двор.
Первый подошел к закоулку за сараем Федор и увидел такую картину. Клавушка, распахнувшись как жаба, не то от страха, не то от недоумения, дрыгалась на земле, а шея ее была в петле, которую крепко держал Пырь. «Поймал, поймал», — металлическим голосом повторял он. Дед Коля, от непонятности вспрыгнувший на забор, выл своим нелепым полу-бабьим, полу-волчьим голосом.
Федор, не сообразив что происходит, тем не менее отпугнул Пыря и тот выпустил петлю. Клава была жива и даже не очень придушена, но от непостижимости она все еще не вставала с земли и виляла жирными ляжками.
Когда все сбежались, Анна дала Пырю пощечину.
— Я ненароком, ненароком, — испуганно-бычьи бормотал он. — Она просто подвернулась… Шея такая жирная, белая… Мысли сами собой петлю накинули…
Клава приподнялась и набросилась на Пыря:
— Ты ведь играл, играл!!? — спросила она.
Ей стало так страшно при мысли о том, что Пырь мог в действительности задушить ее, что она гнала самую эту мысль, вообразив, что Пырь всего-навсего хотел с ней поиграть, как дите. «Не может так быть, чтобы что-то несло мне смерть», — взвизгнуло у нее где-то в животе.
— Играл, играл, — тупо поддакивал Пырь. Федор посмотрел на него.
— Ничего, Клав, он остынет, — сказал Федор, положив свою тяжелую руку на голову Пыря.
Клавушка так настаивала на том, что все это было только забавой, так жалась горлом от страха при противоположной мысли, что все как-то, без лишних углублений, согласились с этим.
Клава даже, для сближения, похабно похлопала Пыря по отвислой заднице. (Будто бы человек, к которому испытываешь половое чувство, не может тебя убить). Чтоб сгладить ерунду, решили выпить.
Присели у какого-то маленького столика в закутке, сбоку дома, чтоб поуютней. Рядом как раз валялась расчлененная Иоганном бродячая кошка.
— Для чего вы их убиваете?! Чего ищете?! — крякнув, спросил Федор.
— Ничего не ищем.
— Как ничего не ищете?!
— Мы получаем удовольствие… И ничего больше… Наслаждение… Наслаждение, — вдруг разом заголосили все трое садистиков: Пырь, Иоганн и Игорек. Они сидели рядышком, по росту, и глаза их блестели в собирающейся тьме. У Игорька даже щечки порозовели, как у девушки.
— А в чем наслаждение?
— Во многом, во многом… Тут нюансы есть… Во-первых, ненависть к счастью, но это другое… — вдруг заспешил Игорек, выпив рюмку водки. Его лицо стало еще более прекрасным, а ручки дрожали от предвкушений. — Потом: они живые, а мы их — рраз умерщвляем… Нету их… Значит мы, в некотором роде боги…
У всех троих оживились личики и точно появились невидимые короны. Иоганн вдруг встал и пошел за скрипкой: у Клавы она валялась где-то в закутке, неизвестно чья. Вскоре послышались трогательные, сентиментальные звуки. Скрючившись, Иоганн играл на ступеньках черного хода…
Пора была уже ночевничать, в новую форму отъединенности.
— Всех, всех пристроим, — ворковала довольная своим брюхом Клава.
— Пырь, все-таки лучше бы ты поехал домой, — сказала Анна.
— Почему, почему же?! — пухло вмешалась Клава. Но Пырь послушно направился к выходу.
— Я еще с ним пересплю в постельке. Даром, что он меня вешал, — пискнула Клава и подскочив, потрепала Пыря по обеим мясистым щекам.
А на следующий день ситуация резко изменилась. До Клавы дошел слушок, что Федору грозят какие-то мелкие неприятности от местных властей. Слушок был мутный, неопределенный, но чуть тревожный. На этот раз Федор решил уехать. Прихватив немного деньжищ, он, чмокнув на прощанье Клавушу в задницу, исчез.
— Пусть побродит… по Рассеи, — подумала Клава. Вечером из всего шумного общества в Клавином доме осталась только Барская, Аня.
Так и не повидал пока Федор Аниных настоящих людей.
Опустело покатились дни в Клавином доме. Клавуша водицей побрызгается, иной раз живого, полуворованного гусенка внутрь себя засунет… «Без удовольствия нельзя… Состаришься», — подумает мельком, отдыхаючи на перинке и посматривая в потолок.
Дед Коля после работы шатается: мух ловит. Мила цветочки на помойках собирает. Одна Аня где-то пропадала. Но однажды Барская зашла в Клавину комнату, к хозяйке:
«Клавдия Ивановна, несчастье тут, у одного моего старого знакомого — Христофорова… Отец чуть не помирает…» И она рассказала, что Христофоровы — отец и сын — попали сейчас в плохие условия, что старик — чистый, но болеет какой-то внутренней болезнью, и ему необходим свежий воздух и перемена обстановки.
— Нельзя ли на время привезти его сюда… во вторую нижнюю комнату… вместе с сыном, чтоб ухаживал, — сказала Анна и вдруг добавила: «не думайте, он мне не любовник, просто очень старое знакомство с его семьей».
Клавушка — к Аниному удивлению — согласилась.
— Вези, Ануля, вези их, — проговорила Клава, — я ведь жалостливая… Гуся и то вон жалею…
И она кивнула на жирного, ошалевшего гусенка, у которого клюв был слегка перетянут бинтом, чтоб он не мог особенно щипаться…
На следующий день Анна привезла сюда, к Клаве, беленького, седого старичка с его двадцатисемилетним сыном.
Старичок был настолько благостным, что прямо-таки растворял все окружающее в любви; седые волосы окружали его голову точно ореол смирения и тишины; а маленькие, глубоко запрятанные глазки светились таким трогательным умилением, будто он не умирал, а наоборот воскресал.
В определенных кругах старичок — Андрей Никитич — считался учителем жизни.
Он шел одной рукой опираясь на своего сына — Алексея Христофорова, другой — на палку, похожую на старую трость, которой он иногда с такой умильностью постукивал по земле, словно она была его матерью.
Остановившись перед крыльцом, старичок тихо заплакал. Клавуша быстро, как цыпленка, подхватила его под руки и прямо-таки внесла в комнату, где ему была уже приготовлена постель.
Потом, когда старика уложили, его было захотели накормить, но Андрей Никитич воспротивился:
— Ведь на свете, кроме меня, есть много других несчастных и голодных людей, — произнес он…
В закуточке, у того столика, где недавно пьянствовали садистики, Клава разговорилась с Алексеем и Анной.
— Не беспокойтесь, Клавдия Ивановна, — волновался Алеша, — я буду ухаживать, а Аня уже договорилась с медсестрой…
— Медсестра у нас ничего, — проговорила Клава, — только отчего-то любит спать в лопухах…
— Вы преувеличиваете, Клавдия Ивановна, — вмешалась Аня, беспокойно взглянув на Алешу.
Но тот пропустил Клавино выражение мимо ушей и весь сиял доброжелательством, оттого что пристроили отца на воздухе. Его астеническая фигура выражала такое удовлетворение, точно он возносился в хорошее место…
Ввечеру все собрались в комнате старичка. Из соседей приплелся дед Коля, но почему-то сконфузившись, хотел было спрятаться под стол.
Андрею Никитичу было уже значительно лучше и он, приспособившись в мягкой, уютной постельке, вдруг стал поучать:
— Жизнь очень проста и Бог тоже очень прост, — выпалил он. — Посмотрите на этих людей, — Андрей Никитич махнул изящной, беленькой ручкой в окно, — они не думают о смерти, потому что видят ее каждый день, когда косят траву или режут животных; они знают, что смерть — это такой же закон Бога и жизни, как и принятие пищи, поэтому они не удивляются, как мы, когда начинают помирать… Вот у кого надо учиться!
И Андрей Никитич несколько победоносно взглянул на окружающих; благость, правда, оставалась, но на дне глаз вдруг обнаружилось страстное, эгоистическое желание жить; чувствовалось, что старичок хочет крайне упростить смерть в своих глазах, чтобы сделать ее более приемлемой, не такой страшной.
— Только любовь — закон жизни, — начал он опять. — Любите ближних и вам нечего будет бояться.
Клава даже не поняла о чем идет речь; она взгрустнула, вспомнив о Федоре: «Кого-то он теперь душит, голубчик… Вот дите», — вздохнула она про себя.
Аня вскоре ушла.
— Я знаю, христианское учение с трудом дается людям, — продолжал болтать старичок, не обращая ни на кого внимания. — Истина — это не сладкая водичка…