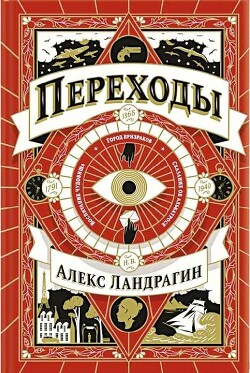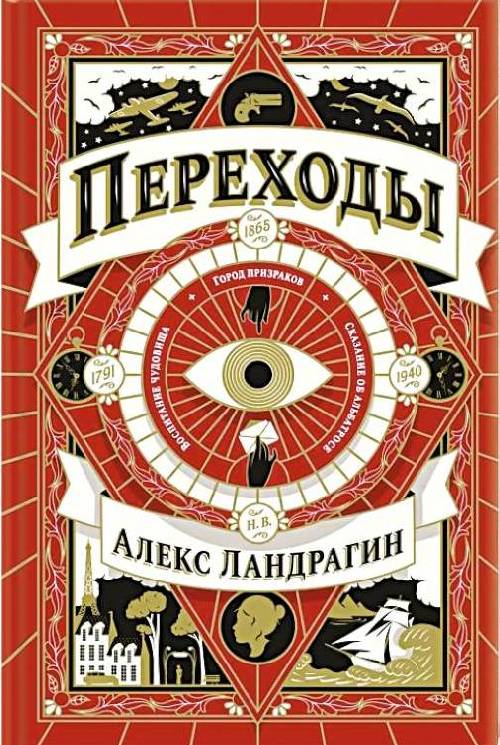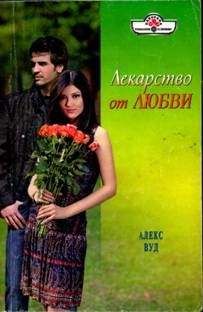— У тебя лауданума довольно?
Я улыбнулся и дремотно кивнул.
Он подошел к письменному столу, на котором были разложены листы бумаги, те самые, которые вы сейчас читаете, начал пробегать их глазами.
— Что это? — спросил он, взглянув на титульный лист. — Повесть? «Воспитание чудовища»?
Я с огромным трудом поднялся с постели, забрал у него страницу, сложил остальные и сунул в ящик.
— Пока не готово.
— Ты опять пишешь?
— Пишу, но читать никому не дозволено. Огюст глянул на меня с любопытством.
— Не раньше, чем я закончу.
Он прищурился.
— В чем дело, Шарль? Ты никогда не проявлял подобной скрытности.
Я снова осел на кровать, Огюст же занял единственный стул в комнате.
— Уверяю тебя, ничего не случилось. Будет готово — покажу, и тебе, уверен, понравится. Ты давно уговаривал меня писать рассказы. Я внял твоему совету. Уверен, на этом мы заработаем целое состояние.
Он невесело улыбнулся. Подобные речи ему доводилось слышать и раньше.
— Очень рад этому, Шарль.
Мне была невыносима мысль, что, расставаясь навеки, мы с ним не попрощаемся.
— Я… собрался в путешествие, Огюст. — Мне не удалось скрыть дрожь в голосе.
— Куда?
Об этом я пока не думал. В какие я края направляюсь?
— В тропики.
— С какой целью?
— Ты же знаешь, что я туда стремился уже много лет.
Я видел, что друг не поверил, но решил мне потрафить как человеку, лишившемуся рассудка.
— Понятно, — произнес он. — И когда ты отправляешься?
— В ближайшие дни.
— Прискорбно. У тебя появились деньги?
Ах да, деньги. Об этом я тоже не подумал.
— Да, от матери. Она мне недавно прислала небольшую сумму. Поеду поездом до Роттердама, а оттуда — в Индию.
— Ты должен у нас поужинать до отъезда, попрощаться с моим семейством.
— Конечно, с превеликим удовольствием.
Огюст поднялся.
— Полагаю, мне пора идти, — произнес он. Потом прочистил горло. — Приходи нынче к ужину.
— Конечно, друг мой, с благодарностью. — Жаль было его отпускать.
Вновь оставшись в одиночестве, я поднялся, вытащил свои записи из ящика и вновь принялся за работу — писал я в постели, обложившись листами бумаги и пустыми пузырьками; в таком виде я и пробудился на следующее утро, от стука в дверь и голоса домохозяйки, звавшей меня по имени.
— Вам письмо, — сообщила она, входя с подносом, на котором принесла кофе, хлеб и конверт.
Она запричитала по поводу беспорядка, однако я ее выпроводил. Письмо было от Эдмонды, его, как и предыдущие, по всей видимости, вскрывали. Я призадумался, не объяснить ли мадам Лепаж в подходящих словах, что я требую уважения к своей частной жизни, но тут вспомнил про долги и решил воздержаться. Когда она вышла, я вскрыл конверт.
Дорогой месье Бодлер.
Простите, что пишу с опозданием. Занималась тем, о чем мы с Вами договорились. До сегодняшнего дня все усилия были втуне, однако теперь могу сообщить, что познакомилась с подходящей кандидатурой. Буду ждать завтра днем на железнодорожной станции в Намюре. Поезд уходит из Брюсселя в четверть одиннадцатого.
В тот вечер я не пошел ужинать к Огюсту. Послал ему записку: мне, мол, нездоровится, зайду завтра. Но и завтра не явился тоже. На следующий день — северное небо было холодным и серым — я вышел из «Гран мируар» без багажа, прихватив лишь узелок, где лежали эта история, перо, баночка чернил, несколько пузырьков с лауданумом и небольшая сумма денег. Нанял извозчика, велел ехать на вокзал.
Церковь Сен-Лу, в которой мне предстояло встретиться со следующим своим телом, — зловещая и элегантная причуда, где интерьер украшен черно-розово-серебряным шитьем. Эдмонда встретила меня на вокзале — стояла на платформе, будто похоронные песочные часы, безучастная к окружавшей ее суете, — и привезла в церковь, ни словом не упредив, с кем нам предстоит встреча, за вычетом того, что молодая женщина полностью осведомлена о том, что ее ждет.
На передней скамье сидела девушка вряд ли старше шестнадцати лет. Услышав наши шаги, она обернулась. Разумеется, это была ты. Удивительно невзрачная, в белом головном платочке и монастырском платье. На лице отражались одновременно и покорность, и вздорность — как будто тебя много и безжалостно били. Кожа бледная, волосы как солома, лицо оживлял лишь легкий румянец на щеках, придававший тебе вид постоянного смущения. Ты поднялась, покусывая от волнения нижнюю губу.
— Шарль, — произнесла Эдмонда, — это Матильда Рёг.
Ты присела в реверансе.
— Матильда, это месье Бодлер, господин, о котором я вам говорила.
— Рада вас, господин хороший, видеть, сгénom! — произнесла ты и вновь присела в реверансе.
Я тут же с содроганием отметил низкие шепелявые нотки выговора бельгийских работяг, подчеркнутого еще и этим дурацким восклицанием: сгénom.
— И я вас тоже, — ответил я, наклонив голову. — Насколько я понимаю, мадам Эдмонда объяснила вам суть предстоящего предприятия. У вас есть какие-то вопросы?
— Нет. — Очень ты комично шепелявила. — Дама мне все как есть растолковала, сгénom! Вы минутку-другую мне поглядите в глаза, а потом дама меня заберет к себе, и я там буду жить в роскоши.
Я встревожился: точно ли, несмотря на все пояснения Эдмонды, ты до конца поняла, что с тобой будет дальше?
— Вы уверены, что этого хотите?
— Да, сгénom! Совершенно против этого не возражаю. У мужчин бывают странные желания.
— Вы умеете читать и писать?
— А то! Монашки меня как следует выучили, сгénom!
— Чтению, письму и молитвам, полагаю. — Я вздохнул. Вытащил из кармана брюк листок бумаги, развернул, протянул тебе. — Можете мне вот это прочесть?
Некоторое время ты смотрела на написанное как на слова иностранного языка, а потом начала читать по складам, румянец на щеках сделался гуще прежнего — ты все время спотыкалась на длинных незнакомых словах:
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
Бедняжка, ты запнулась уже на названии, а дальше пошло только хуже.
— Прошу, прекратите! — взмолился я; ты в твоих трудах не добралась и до середины. — Вы удушаете мои слова! — Я выхватил у тебя листок и потер лоб, чтобы утихомирить боль, пробившуюся сквозь покровы лауданума. — Спасибо, дитя мое, довольно.
— Сгénom, ни словечка не поняла. А чего это такое-то?
— Стихотворение, — прорычал я. — Вам хоть ведомо о существовании таких вещей?
— Да понятное дело. Сестра Бернадетта их вечно наизусть заучивала, про Иисуса. Вот только зачем про птицу-то стихи писать? И кто он такой, этот альбатрос?
— Такая крупная чайка, — пояснила Эдмонда. — Спасибо, Матильда, вы прекрасно справились. Не могли бы вы выйти наружу и подождать там? Мы очень скоро позовем вас обратно.
Ты кивнула, присела в реверансе и зашаркала к главному порталу. Стоило тебе удалиться, как я вскипел:
— Немыслимо! Просто немыслимо! Невзрачная, безмозглая, глухая к поэзии, даже пару слов связать не в состоянии. Выговор ужасающий, не говоря уж о малограмотности. Сгénom, сгénom! Несносная девица.
— Это, кстати, сокращение от saсгé nom. Наверняка, будучи поэтом, ты ценишь ее чувства. «Святое слово».
Тело мое дрожало подобно скрипке.
— Мне прекрасно ведомо, что это значит. Но не в том дело. Дело в том, что девица эта не только противна взору, но еще и лишена чувства прекрасного. А что такое женщина без прекрасного? — Едва произнеся эти слова, я поют, что поступил жестоко.
Эдмонда села со мной рядом, взяла мои руки в свои.
— Милый мой Шарль, думаешь, я не задавалась этим вопросом?
Я посмотрел на нее. Вуаль была поднята. Лицо ее вновь предстало мне во всем своем уродстве — насмешкой над моими страданиями и порожденной ими досадой.