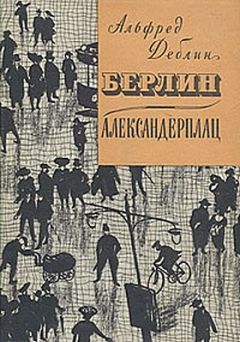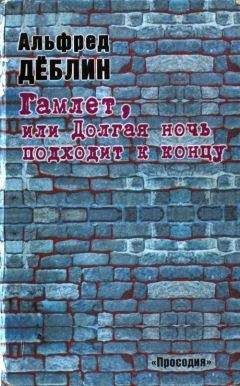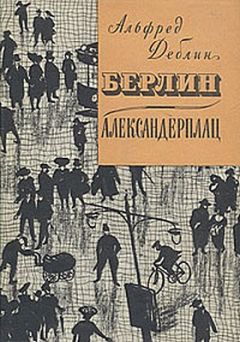Ну да, это Мицци. Поскреб себе щеку, снова посмотрел на Еву пустыми, невидящими, мутными глазами. Невозможно выдержать такой взгляд.
— Ну да, это Мицци. Да. Что ты на это скажешь, Ева? Убили ее. Вот почему мы ее не нашли.
— Ведь и про тебя тут пишут, Франц.
— Про меня?
Он снова поднял газету, поглядел в нее. Так и есть, это он тут изображен.
Сидит Франц, медленно раскачивается всем телом. Бормочет: боже мой, боже мой! Жутко ей стало, она придвинула свой стул к нему. А он все раскачивается, раскачивается. Боже мой, Ева, боже мой… А потом вдруг засопел, запыхтел, щеки надул, будто насмешил его кто-то.
— Боже мой, Ева, что же теперь делать, что делать?
— Почему ж тебя тут поместили?
— Где?
— Да в газете.
— Понятия не имею. Ради бога, что же это такое? Почему я здесь — сам не пойму, смешно.
Говорит, а сам смотрит на нее, беспомощно так, жалобно, она обрадовалась, слава богу, хоть смотрит по-человечески. Слезы опять навернулись у нее на глаза, толстуха Тони снова принялась скулить. Франц положил руку Еве на плечо, прижался лицом к ее груди, всхлипнул:
— Что же это такое, Ева, что стряслось с нашей Мицекен, как же это так? Она умерла, с ней беда случилась, — теперь все ясно, она вовсе не бросила меня, убили ее, нашу Мицекен, кто-то убил! Мицекен, Мицекен милая, что с тобой сделали, неужели это правда? Скажи мне, что это неправда!
Думает он о своей Мицци, а в душе поднимается, нарастает безотчетный страх. Вот он идет, жнец, Смертью зовется он, идет, топором машет, на флейте играет. Вот разинул он страшную пасть и взял трубу. Сейчас он затрубит в трубу и ударит в литавры, и вынырнет из мглы черный таран, и пойдет крушить, вумм, вумм. Тише, тише!
Слышит Ева — заскрежетал Франц зубами. Челюсти его двигаются равномерно, будто перемалывают что-то. Она обняла Франца. Голова его затряслась, хотел он что-то сказать, но голос сразу же сорвался, перешел в хрип. Слова застряли в горле.
Вот так же было, когда под машину меня бросили. Тогда, словно под жернов попал, словно каменная глыба на меня обрушилась и придавила к земле. Как ни держись, что ни делай — ничего не поможет. Будь я хоть из железа, все равно раздавят меня, сломают.
Франц скрипит зубами и бормочет:
— Что-то будет?
Словно под жернова попал. Что же это за мельница, ветряная или водяная? А перед глазами колеса вертятся, вертятся…
— Что будет, Франц? Смотри, будь осторожен, ведь тебя же разыскивают.
Значит, думают, что это я ее убил, я? Его снова охватила дрожь, на лице снова появилась усмешка; я, правда, как-то раз поколотил ее, а они думают, верно, что я ее, как Иду…
— Сиди ты дома, Франц, не выходи на улицу; куда тебя несет? Тебя же ищут, сразу узнают по пустому рукаву.
— Не бойся, Ева, если сам не захочу, никто меня не найдет, будь уверена. Я спущусь вниз, прочту объявления на тумбе. Я должен все узнать, как было. И в пивную пойду, все газеты прочитаю.
Остановился ом перед Евой, посмотрел на нее в упор — и не в силах слова вымолвить, того и гляди расхохочется.
— Ну-ка, Ева, взгляни на меня. Заметно по мне что-нибудь или нет?
Вцепилась Ева в него, не отпускает от себя.
— Нет, — кричит, — нет!
— Да ты хорошенько взгляни. Наверное, что-нибудь да заметно.
— Нет, нет! — снова закричала Ева и захлебнулась слезами.
А он взял с комода шляпу, улыбнулся и пошел к двери.
И БЫЛИ ЭТО СЛЕЗЫ ТЕХ, КТО ТЕРПЕЛ НЕПРАВДУ, И НЕ БЫЛО У НИХ ЗАСТУПНИКА
У Франца давно уже был протез, только носил он его редко. Но теперь, перед тем как идти, пристегнул его, засунул искусственную руку в карман пальто, — в левой руке у него дымящаяся сигара. Выбрался из квартиры с великим трудом. Ева в голос кричала, потом упала перед ним на пороге и не давала ему пройти, пока он не пообещал ей не скрываться никуда и быть начеку.
— К кофе я вернусь, — сказал он уже на лестнице. Так и не забрали Франца, пока он сам не дался.
И шли два ангела-хранителя одесную и ошую его, и отводили от него взоры…
В четыре он вернулся домой к кофе, как и обещал. Пришел Герберт. И тут Франц заговорил. Никогда они еще такой длинной речи от него не слышали. Он был в пивной, все прочел в газете и о приятеле своем, жестянщике Карле, и о том, что тот их оговорил. Не возьмет Франц в толк, зачем он это сделал. Оказывается, Карл тоже был в Фрейенвальде, куда затащили Мицци. Рейнхольд ее силком туда увез. Наверно, он раздобыл машину где-то, проехал с Мицци немного, а потом к ним подсел Карл, и они вдвоем скрутили ее и увезли в Фрейенвальде, может быть это и ночью было. А может, они ее убили еще по дороге.
— Да зачем же Рейнхольд это сделал?
— Ведь это ж он выбросил меня тогда из машины, теперь мне нечего скрывать. Он это и сделал, но ничего, я на него зла не держу, — таких, как я, учить надо, а то весь век дураком проживешь и понимать не будешь, что творится на белом свете. Вот я зла на него и не имею, нисколько. А теперь он хотел меня в бараний рог согнуть, думал, что я у него в кармане, да потом понял, что ошибся. Потому и отнял он у меня Мицци и сделал над ней такое… Только она-то чем виновата?
Как это было тогда… Ах, зачем, ах, затем… Гром барабанов. Батальон — смирно! Шагом марш! Когда по улицам идут солдаты, из окон вслед глядят девчата, ах, зачем, ах, затем, чингда, чингда, чингдарада, бумдарада, бум. Так я пошел к нему тогда, и так он мне теперь ответил. Будь оно проклято! Зачем я к нему пошел? Не надо было к нему ходить! Не надо!
Ну, да теперь все равно!
Герберт глаза выпучил. И Ева не может произнести ни слова.
— Почему ж ты ничего не сказал об этом Мицци? — спросил Герберт.
— В этом нет моей вины, с этим уже ничего не поделаешь, с таким же успехом он мог застрелить меня, когда я пришел к нему на квартиру. Говорю вам, с этим уже ничего не поделаешь.
И было у зверя семь голов с десятью рогами, а в руке жены чаша, наполненная мерзостями и нечистотою… Теперь они совсем доконают меня, и ничего уже не поделаешь.
— Сказал бы ты, чудак, хоть слово, и я тебе ручаюсь, что Мицци была бы и сейчас жива, а кто-то другой не сносил бы головы.
— Не моя вина! Нельзя знать наперед, что такой человек сделает. И что он делает сейчас, вот в эту минуту, — тоже не узнать.
— Узнаем!
Ева чуть не плачет.
— Не связывайся ты с этим человеком, Герберт, я и за тебя боюсь.
— Мы осторожно. Только бы узнать, где он, и через полчаса за ним лягавые явятся.
Франц раздумчиво покачал головой.
— Не трогай его, Герберт, рассчитаться с ним — мое дело! Даешь слово не мешать мне в этом?
А Ева:
— Не спорь, Герберт. А ты что будешь делать, Франц?
— Я конченый человек. Меня на свалку можно выбросить.
Он быстро отошел в угол и повернулся к ним спиною.
И услышали они, как зарыдал Франц. Стонет, глотает слезы, плачет по Мицци и по себе. Услышала это Ева, уронила голову на стол и сама зарыдала. А на столе все еще лежит газета с заголовком на первой полосе "Убийство в Фрейенвальде". Мицци убили, и они ничего не могли сделать. Это ее судьба.
И ВОСХВАЛИЛ Я МЕРТВЫХ, УМЕРШИМ ВОЗДАЛ ХВАЛУ
Под вечер Франц снова пустился в путь. Дошел он до Байришерплац, и тут закружили над его головой пять воробьев. Это души пяти гнусных негодяев, которые уже частенько встречали нашего Франца Биберкопфа. Теперь они обсуждают, что им делать с ним, как за него взяться, как запугать его, сбить с толку, как бы подставить ему ножку.
Первый галдит:
— Вон он идет! Глядите-ка, протез пристегнул, значит, надеется еще на что-то, думает, не опознают его.
А второй:
— Чего-чего этот молодчик не натворил! Это опасный преступник, по нем давно каторга плачет. Пожизненную он уже заслужил, убил женщину, потом воровал, налетчиком был, а теперь убил вторую женщину, не иначе, как его рук дело. На что же он рассчитывает?
Третий:
— И еще нос задирает! Скажите пожалуйста, — святая невинность. Разыгрывает из себя порядочного человека. Нет, вы полюбуйтесь на этого прохвоста. Как только появится агент вблизи, мы мигом собьем спесь с молодчика.
А первый опять:
— И как только его еще земля носит? Я вон на девятом году тюрьмы загнулся. Моложе его был, а подох. Сними шляпу, обезьяна, сними свои дурацкие очки, тоже еще интеллигент выискался, болван этакий, сколько дважды два не знает, а роговые очки на нос нацепил, словно профессор какой! Вот погоди, скоро заберут тебя.
А четвертый:
— Да не галдите вы так. Что вы с ним поделаете? Вы только взгляните на него, у него есть голова, и ноги у него целы. А мы, что мы теперь? — воробьи, мелкая пташка, только и можем, что на шляпу ему нагадить!
А пятый:
— Ну-ка, напустимся на него все разом. Он и так уж заговаривается, у него давно уже винтика в голове не хватает. Гуляет тут с двумя ангелами по бокам, а подружка-то его теперь только слепок в полицейпрезидиуме, хо-хо! Неужели же мы с ним не справимся? А ну давай, а ну громче!