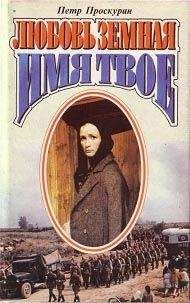Макашин даже неожиданно тихо заулыбался от мысли появиться сейчас перед Захаром, сесть с ним за стол и кое о чем спросить. Ну, хотя бы вот это: как же это ты, земляк, доначальствовался до лесопогрузки на какой-то дикой речушке Каме? И какое у тебя по этому случаю душевное удовольствие? Давай забудем на время нашу с тобой вражду-замогилицу, поговорим глаза в глаза о житухе людской, зачем вообще такой расчудесный зверь, как человек, на землю сошествовал. Друг друга за горло рвать да при первом случае в первой же вонючей луже топить? Или есть ему особое какое назначение от бога или того же черта? Вот твоя жизнь, вот моя, а чем же мы ее, такую распрекрасную, заслужили? Ну, я — ладно, статья особая, а ты, Захар Дерюгин, сколько ты на свою душу греха взял, сколько людей на выселки отправил, сколько детских душ загубил, — и как же ты свою жизнь теперь считаешь? Перед каким богом на колени становишься?
И сюда, до глубинной Сибири, доходили слухи, что как раз в два первых послевоенных года — сорок шестой и сорок седьмой — небывалая засуха сожгла почти все, начиная с Украины и кончая Уралом, и что дети и старики в селах пухнут от голода, и в городах в магазинах голым-голо, говорили о том, что есть места, где вымирали семьями, эти и множество других слухов как-то связывались сейчас у Макашина с портретом в газете передовика Захара Дерюгина, связывались воедино и прочно, и от этого беспокойство никак не оставляло его; он пытался заснуть, опять вставал и курил и назавтра на работе много думал о Захаре Дерюгине. К нему подходили с разными делами; как обычно, нужно было решать сразу и то, и другое, и третье, и он на время забывался; но стоило лишь наступить минуте затишья, как в голову опять лез Захар, и это тянулось и неделю, и месяц, и год и в конце концов стало нестерпимым, Макашин заметно похудел, стал вялый и раздражительный не в меру; Захар Дерюгин и неутихающее желание встречи с ним стало его болезнью, по ночам все чаще, словно наяву, он видел Захара и подолгу разговаривал с ним, разговаривал обстоятельно, неторопливо, иногда спорил до хрипоты, но тоска не проходила, разрасталась, как корень, проникающий все дальше в землю, и Макашин все время это чувствовал, и если становилось особенно невтерпеж, он собирался и уходил к сорокалетней одинокой женщине, Галине Аркадьевне, как ее все называли, заведующей почтой в поселке, единственному на свете близкому существу. Она, образованный в общем-то и неплохой человек, с чисто женской интуицией чувствовала его душевную неустроенность и жалела его.
* * *
В звонкий от мороза январский вечер он пришел к пей поздно; Галина Аркадьевна собиралась ложиться спать и сидя причесывалась перед зеркальцем; Макашин давно не был у нее, и она обрадовалась, быстро накинула на голые плечи байковый халатик, пошла открыть, сразу молодея и подбираясь.
— Ты, Федор? — спросила она из-за двери, хотя уже безошибочно, едва только раздался стук в окно, почувствовала, что это именно он. Услышав знакомый нетерпеливый голос, отодвинула щеколду; Макашин принес с собой запах мороза, свежести, и она зябко поежилась.
— Давай, давай назад, простудишься, сам закрою, — сказал Макашин, слегка обнимая ее за плечи и тотчас легонько отстраняя от себя; он вошел в комнату, быстро сбросил затрепанное полупальто, шарф и шапку и, пригладив волосы руками, подошел к Галине Аркадьевне, с силой и горячностью прижал к себе и, стараясь забыться, долго целовал.
— Ты что, Федя, пьян? — спросила она жарким, задыхающимся шепотом, она уже привыкла и к его рукам, и к его характеру, но таким стремительным и торопливым она его еще не знала.
— В рот не брал, — прошептал почему-то Макашин, и шепот его был какой-то сыпучий, дымный.
— Что с тобой происходит в последнее время, Федя? — спросила Галина Аркадьевна, вздрагивая от его жадных прикосновений. — Не надо, не надо, Федя, успокойся, ты же знаешь, я тебя люблю, привыкла… и никуда не денусь, зачем же так по-молодому?
Макашин ничего не ответил, но она почувствовала, как дрогнули его руки; он помедлил, сел у стола на скрипнувшую табуретку и, захватив сверху взлохмаченную голову руками, пригнул ее, глухо засмеялся. Галина Аркадьевна, вздохнув, подалась к нему, стала гладить ему плечи, затем попыталась разнять его руки и отвести их в стороны; Макашин все смеялся.
— Невезучие мы с тобой, Галя, — сказал он, с какой-то отчаянной веселостью поглядывая па нее снизу белыми, напряженными глазами, и сам уронил руки.
— Неправда, неправда, — торопливо возразила она, — это ты под нехорошую минуту подпал. Нельзя так, Федя! Счастливые мы, раз встретились и нам хорошо один подле другого! Вот как дело-то обстоит…
— Нет, Галя, не так все оно, как хочется. Вот я больше сорока годов на свете прожил…
— Что такое для здорового мужчины сорок два года, Федя… Смешно, право, смешно! — прервала она, пытаясь отвлечь его, по Макашин не стал слушать.
— Словно слепец, ни тьмы, ни света различить не умею. Ты представляешь, Галя, книжки стал читать, — сказал он со странной, застывшей улыбкой на лице, как бы приглашая свою собеседницу поизумляться над тем диковинным фактом, что он книжки читает. — Все-то в голове разломилось, перевернулось, все вконец с места на место перекинулось, а промеж всякая непонятная труха насыпается. Деготь, да и только, ноги не вытянешь. — Он поднял руку, пошевелил у виска растопыренными пальцами; Галина Аркадьевна мягко перехватила его руку, опустила ее вниз, встречая ответное, не сильное, впрочем, сопротивление: Макашину нравилось подчиняться ей в таких вот приятных мелочах.
— Есть хочешь, Федя? — спросила Галина Аркадьевна, все еще не отпуская его руку, и, увидев, как он утвердительно кивнул, предложила: — Давай чай поставлю… Или тебе что-нибудь покрепче?
— Не откажусь.
Она быстро собрала на стол, пригласила Макашина.
— Тепло мне с тобой, Галя, — сказал он, наливая из бутылки в два толстых стакана, хотя отлично знал, что хозяйка и в рот не берет. — А я, как подкидыш, так и тянусь к тепленькому огоньку, да ведь не всякий греет, иной и обожжет…
Он смотрел с тихой любовью; Галина Аркадьевна не выдержала, смутилась, подошла, легонько прикрыла ему ладонью глаза.
— Не надо, Федя, — засмеялась она. — Что ты сегодня пугаешь… Давай выпей, закуси, и спать пора. Последнее время ты с лица спал… Может, ты болен, Федя?
— Уеду я скоро, — вздохнув, Макашин отставил нетронутый стакан.
— Уедешь — вернешься, — сказала Галина Аркадьевна, пристально глядя на него, пытаясь понять, что он в самом деле думает сейчас — Лучше жизни и работы для себя ты нигде не найдешь. Деньги повольнее, подспорье всякое охотничье… Смотри, какая на столе рыба… А что пишут из нашей с тобой милой России? После войны еще куска вольного не видели, в руках не держали. Икорки черной к водочке достать?
— Спасибо, спасибо, Галя, давай. Не могу я рассказать, не надо тебе. Тоска у меня, ах, какая тоска, человека бы одного увидеть, а там будь что будет!
— Это женщина? — У Галины Аркадьевны голос чуть дрогнул, но смотрела она по-прежнему любяще, понимающе; она совершенно не собиралась копаться в прошлом Макашина и считала это нестоящим делом; ни она, ни он никогда не говорили друг другу о своей прежней жизни, словно сговорились об этом заранее; в невольном вопросе Галины Аркадьевны этот негласный запрет был нарушен, и Макашин, чтобы забыться, быстро выпил, переждал легкое головокружение и, зацепив вилкой большой кусок плотно слежавшейся зернистой икры, отправил его в рот.
Галина Аркадьевна пододвинула к нему тарелку с хлебом, он не заметил. Водка не помогла; так уже с ним случалось где-то в предгорьях Карпат, во время очередного немецкого отступления, когда он нечаянно оказался на краю пропасти и увидел далеко внизу белый, сверкающий поток и беспорядочно торчащие острые камни; сейчас он тотчас вспомнил пропасть, свое ощущение, то, как ползком он отодвинулся назад, осторожно задерживая дыхание. Хотя знал, что его карта бита, он хотел тогда жить, зверски хотел жить; случись это сейчас, он бы еще подумал, стоит ли спасать никому не нужную жизнь.
— Это, Галя, никакая не женщина, самый настоящий мужик, — сказал Макашин, переждав и с проснувшимся любопытством глядя на хозяйку, ставившую на стол чайник. — Не удержусь, видать, поеду.
— Гляди сам, Федя. — Галина Аркадьевна, угадывая за всем этим какую-то особую, вполне вероятно, большую, страшную жизнь и запутанность, заговорила о другом, но на Макашина уже накатило; чтобы успокоиться, ему нужно было выговориться, и Галина Аркадьевна окончательно испугалась.
— Не надо, Федя, я ни о чем тебя не спрашивала и не спрашиваю, — попыталась она остановить его. — Ну к чему это, сам подумай? Давай выпей еще, закуси, уже поздно, а завтра на работу.
— Не могу я больше, Галя, — глухо признался он. — Один, все один, может, сойтись нам надо по настоящему, по закону записаться? Что ты смотришь?