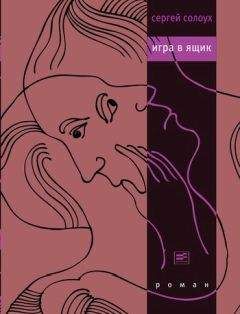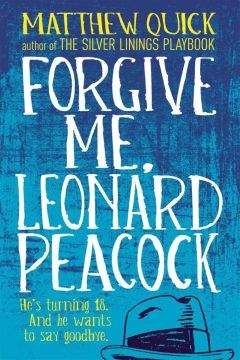Купился. Вот что он сделал, Боря Катц. Повелся на посулы и обещания. И никаких сомнений не могло быть, поскольку, вернувшись из Вишневки, Олег Росляков буквально через три дня, можно сказать не обсохнув, в следующий же понедельник, второго июля отвалил в отпуск, плановый, на двадцать четыре рабочих дня. И вместо тайного значения всей рогатой олимпийской криптографии – пси, гамма, тета с подстрочными копытами арабских цифр – 1, 2, 5, несчастному, прибитому подлейшей новостью Б. Катцу случайно попавшийся в общажном холле тезка отпускника, циничный крепыш Мунтяну, объяснил весь до копейки низкий смысл какого-то очередного мерзейшего словца из домотканого, берестяного лексикона.
– Там всего месяц остается. Какие-то недели... – пожаловался Боря.
– Выходит, птица обломинго... – слегка подумав, резюмировал Олег Ионович.
– Что-что?
– Ну, в смысле, обломил тебя шефяра. Поманил, а ты за чистую монету принял...
Купился. Опять эта гнусная, ненавистная возвратность. Сам себя, сама себя, само себя... И почему она его преследует, именно его, Бориса Катца? Непостижимо. С университетских дней, когда не Олечка Прохорова, а совершенно никчемная в смысле устройства в этой жизни училка с кафедры, возрастная, со следами помады на зубах, во время обязательных славянских факультативов жестоко изводила Борька при всех...
– Спрягайте, Катц.
– Bojím se, bojí se, bojí se…
– Хорошо, – с какой-то розовой слюною не только на губах, но и вокруг белков, вся в предвкушении его ошибки. – Прекрасно. А теперь в прошедшем времени..
– Je... je... je bal se...
– Неправильно. Jsem bal se, jsti bal se, а bal se в третьем лице вовсе без je...
И девочки из пгт Берзовский и из Топок, жалеющие:
– Стыдоба. Обратно тебя на этом ловит...
Какой-то рок. Не мог запомнить, страницы книг фотографировал навечно. А это – хоть убей. Местоименье путалось с глаголом. Ja, je. Ja, je. Ся, сь.
Короче, ни о какой работе, диссертации, о чем-то долгом, постоянном, приездах и отъездах, и уж тем более возможности в конце концов тут, в институте, молодым ученым зацепиться, как вечный везунок Подцепа. Всего лишь одноразовое поручение, как нерадивому члену союза молодежи. А после – скатертью дорога. Декуи.
Одни лишь некрасивые слова из прошлого и настоящего лезли обиженному Б. А. Катцу в голову. А между тем красота физическая и духовная теперь, после срывания всех и всяческих покровов, оставалась единственной надеждой Бориса. За два оставшихся месяца он должен был сделать то, чего не смог при всем старании за тридцать шесть предшествующих. А именно, жениться. И слиться с этой благословенной местностью в среднем течении реки Москва. Теперь или же никогда.
Иными словами, короткая, но содержательная беседа двух молодых ученых, Бориса Катца и Олега Мунтяну, о некоторых смысловых аспектах и общей этимологии кое-каких новейших ходячих выражений имела весьма неприятные последствия для зубра отечественной горной науки Льва Нахамовича Вайса. Бывший его аспирант, Б. А. Катц, после обеда в лаборатории не появился. Заставил Л. Н. лично фарфоровой, холеной лапкой сгребать разложенное поутру хозяйство. Постукивая злыми коготками о старую безвольную столешницу, сортировать и складывать ДСП папки, словари, карандаши, бумагу для черновиков. А ничего не сделаешь, есть гордость не только у великороссов.
И на следующий день Катц не пришел, и через день не обнаружился. Гонцам не отпирал, на телефонограммы, передаваемые через вахтеров, не реагировал. Как ночной хищник, таракан, Борис Аркадьевич уходил из общежития едва ли не под гимн из репродуктора и возвращался к тем же звукам, весь день шатаясь по столице. На летних проспектах и бульварах заглядывая в лица девушек. Простым вопросом отделяя москвичек от приезжих:
– Вы не подскажете, где зоопарк?
– Ну где-то там, по-моему, возле ВДНХ.
И все это в страду, самый неблагоприятный сезон, в дачно-курортном угаре, когда суда, летательные аппараты и поезда всех категорий вывозят коренное население хлебными снопами, вповалку из города мечты, взамен проспекты и бульвары вожделенной, взор и обонянье услаждающей столицы заполняя пустоцветом, нетитульной, левой ордой.
– Вы не подскажите, как пройти к зоопарку?
– А это ехать надо вам... На Ленинские горы...
Липа, одна лишь липа. А если настоящие и попадались Боре, в толпах транзитников и экскурсантов женского пола, то на приставания точного такого же, деревянного, лакированного, шахматно-шашечного коника, без внутренних секретов, без жеребячьих эманаций, единственно и только сулящих хоть какой-то шанс на улице, отвечали презрительно и грубо:
– Где зоопарк? А там же, где и планетарий.
Но только потеряв немало времени, недели через две, уже тогда, когда в ложных крестах и ориентирах горел весь безразмерный город от Лосиноостровской до Орликова переулка, Борис додумался скорректировать стратегию и тактику.
А проще говоря – сдался. Мамин назойливый и надоевший, такой несовременный шепоток: «Ну что ты мечешься, найди ты идышку какую-нибудь, это так просто» – наконец принял как указанье к действию. Единственный возможный в создавшемся цейтноте выход из положения. Решение вопроса.
И с этого дня Боря забросил места культурного и исторического значения и начал пастись исключительно и только в спальных переулках Бронных, как ему помнилось из курса принудительного краеведения от Олечки М. Прохоровой, населенного довольно плотно нужным контингентом. Сосредоточился на узком пятачке между столом заказов на углу Козихинского переулка и маленьким базарчиком, как радужная капля вздувшимся на конце прозрачной трубки Сытинского тупика. И чудо совершилось.
Борис ее увидел, неотразимую, с небесным, сине-белым пакетиком «Внешпосылторг» в руке. Субботним утром двадцать первого июля, как в черной раме старой акварели, сквозь распахнутые ворота Палашевского рынка Б. Катц поймал глазами сладкий дым – густые, дыбом волосы у дальних рядов, где продавали самый дорогой плод месяца – последнюю черешню.
Вот только первый контакт стал не вполне таким, как рисовался.
– Молодой человек, берите ягодку, – крикнула какая-то торговка, увидев подгребшего и замершего у прилавка Катца. – Последняя. Больше не будет.
– А может быть, малинки вам? Свежайшая... – ощерилась еще одна, но зачарованный Борис и к ней не повернул красивой, точеной на токарном станке головы, и тогда уже кто-то третий сбоку, сообразив внезапно, в чем же дело, гадко захрюкал:
– А девушка не продается...
И только после этого хозяйственное существо с местной пропиской наконец глянуло через плечо. Медные стружки волос откинулась, и показался нос. Такой, что на одном только его крыле веснушек помещалось больше, чем на всем гвардейском теле Бори Катца. И сладостное ощущение удачи вдруг пойманной за хвост, неведомое Боре, едва знакомое, из всех желез, ответственных и безответственных буквально прыснуло в его дрожащие, истосковавшиеся по витамину хоть какого-то везения сосуды. И юноша подумал: «Мама будет рада». Но тут же сделать заявления особой важности: «Меня зовут Катц... Катц с буквой т», – Борис Аркадьевич не успел.
– Может быть, все же ягодку? Взгляните, как хороша... – снова раздалось сверху неуместное, назойливое предложение.
Катц гневно зыркнул на мерзких зазывал, жаром души их опалил, сжег, уничтожил, и напрасно. Буквально в мгновенье ока, в секунду мщения желанная москвича с благородным носом исчезла из-под собственного Бориного, довольно, между прочим, невзрачного, невыразительного. Прямого, маленького, вполне греческого, несмотря на букву «т» внутри.
А впрочем, нос аккуратный и неброский, свой собственный, чрезвычайно нравился Борису Катцу, и он не понял, откровенно изумился, отчего и почему прекрасная незнакомка не задержалась, околдованная пусть мелкими, но гармоничными и правильными чертами его лица.
Свидетели, ах да, мерзкие пересмешники и зубоскалы. Чудесная и деликатная москвичка с густой копной каштановых, волнистых, словно с катушек электрических приборов, как проволока скрученных волос просто звала Бориса в другое место. Манила прочь. В тенета Патриаршего пруда, туда, где даже утки сама деликатность. Серенькие. Б. Катц все понял и кинулся за тенью.
Нагруженная, но несомненно быстроногая уже была на той стороне Богословского. Она спешила и, казалось, должна была вот-вот смешаться с толпой людей на углу у кремового с большими стеклами витрин продуктового, пропасть совсем. Но это для других, для всех, но не для Бори Катца. Он знал, каков на самом деле план, и потому не устремился тупо и наивно вслед сине-белому полиэтилену с черной медвежьей дробью. Борис рванулся прямо, во двор старого многоэтажного строения с низкой подворотней, через дыру которой выскочил на Козихинский, затем ядром скатился по кривому рукаву переулка к тенистой улице, нырнул под лапчатые клены, движимый инерцией, а заодно надеясь так самым скорым способом привести в порядок быстрое дыхание, Борис уже спокойным шагом прошел по Большой Бронной еще метров пятьдесят и остановился у высокого крыльца какого-то учреждения.