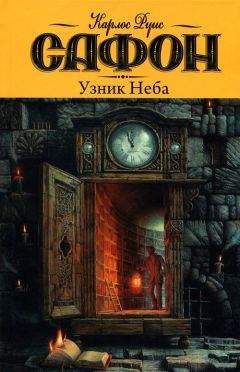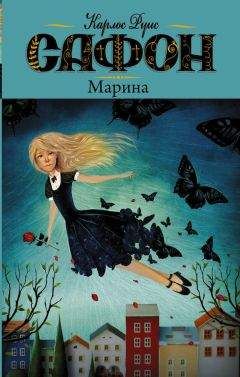— Хулиан!
Он не ответил. Я видела его тень, неподвижно застывшую внизу. Тогда я перешагнула через груду камней и тоже спустилась. Передо мной открылась небольшая комната, стены ее были выложены мрамором. В ней веяло страшным пронизывающим холодом. Две каменные плиты были затянуты густой пеленой паутины, от огня лампы рассыпавшейся, как гнилой шелк. Белый мрамор был, словно слезами, изрезан черными следами сырости, и казалось, что выбитые на нем буквы истекают кровью. Они лежали рядом, словно цепью, скованные проклятием.
Пенелопа Алдайя
1902–1919
Давид Алдайя
1919
Потом я много раз вспоминала тот миг. Я пыталась представить, что почувствовал Хулиан, поняв, что женщина, которую он ждал семнадцать лет, мертва, что их ребенок ушел вместе с ней, что та жизнь, о которой он мечтал, его единственная надежда, на самом деле никогда не существовала. Большинству из нас дано счастье или, наоборот, несчастье наблюдать, как жизнь постепенно проходит, в то время как мы даже не отдаем себе в этом отчета. У Хулиана все это произошло за несколько секунд. На мгновение я решила, что сейчас он бросится вверх по лестнице, прочь от этого проклятого места и никогда туда не вернется. Наверное, так было бы лучше.
Помню, как огонек лампы медленно погас, и я потеряла Хулиана в темноте. Я на ощупь стала искать его и наткнулась на него, дрожащего, онемевшего. Едва держась на ногах, он стоял, прижавшись спиной к стене. Я обняла его и поцеловала в лоб. Он даже не шевельнулся. Я коснулась его лица. На нем не было и следа слез. Я надеялась, что, возможно, сам того не осознавая, он все эти годы догадывался о том, что произошло. Эта встреча была лишь необходимостью увидеть правду своими глазами и освободиться от груза прошлого. Мы прошли весь путь до конца. Хулиан теперь поймет, что больше ничто не задерживает его в Барселоне, и мы уедем вместе. Я хотела верить, что наша судьба изменится и что Пенелопа нас простила.
Нашарив на полу лампу, я снова ее зажгла. Хулиан смотрел в пустоту. Я взяла его лицо руками и с усилием повернула к себе. Безжизненные глаза были пусты, сожженные яростью и болью потери. Я чувствовала, как яд ненависти медленно растекается по его венам, и прочла его мысли. Он ненавидел меня за то, что все это время я обманывала его. Он ненавидел Микеля за то, что тот подарил ему жизнь, которая была больше похожа на зияющую рану. Но больше всего он ненавидел того, кто стал причиной всего этого несчастья, воплощением смерти и горя: самого себя. Он ненавидел книги, которым посвятил свою жизнь и которые никому не были нужны. Он ненавидел свое существование, прошедшее в неведении и лжи. Он ненавидел каждый украденный у жизни миг, каждый вздох.
Каракс пристально смотрел на меня как смотрят на чужого человека или незнакомый предмет. Я медленно покачала головой, пытаясь найти его руки. Он резко отпрянул в сторону. Я дотронулась до его плеча, но он оттолкнул меня и стал молча подниматься по лестнице. Это был уже другой, незнакомый мне человек. Хулиан Каракс умер. Когда я вышла из дома Алдайя, его уже не было поблизости. Я вскарабкалась на каменную ограду и спрыгнула на улицу. Пустынные улицы истекали кровью под струями дождя. Идя по безлюдному проспекту Тибидабо, я звала Хулиана. Никто мне не ответил. Когда я вернулась домой, было около четырех часов утра. Квартира была заполнена дымом и сильно пахло горелым. Хулиан уже побывал здесь. Я бросилась открывать окна. На своем письменном столе я увидела футляр, в нем лежала ручка. Та самая ручка, которую я купила Хулиану несколько лет назад в Париже, отдав все свои сбережения в обмен на ручку и уверения, будто она принадлежала когда-то то ли Виктору Гюго, то ли Александру Дюма. Из печки медленно сочился дым. Я открыла заслонку и поняла, что Каракс сжег все свои книги, которые стояли у меня на полке. На обгорелых переплетах едва можно было прочитать название. Все остальное превратилось в пепел.
Несколько часов спустя, когда я пришла на работу, Альваро Кабестань пригласил меня в свой кабинет. Как я уже говорила, его отец был очень болен, и врачи говорили, что дни его сочтены. Как и мои дни в издательстве. Альваро рассказал, что тем утром к нему заходил какой-то человек. Он назвался Лаином Кубером и заявил, что хочет купить все экземпляры романов Хулиана Каракса, которые у нас есть в наличии. Кабестань сообщил ему, что книги хранятся на складе в Пуэбло Нуэво, но так как на эти романы всегда большой спрос, за них придется заплатить цену, намного превышающую предложенную сеньором Кубером. Кубер ушел ни с чем. Теперь Кабестань-сын просил меня как можно скорее разыскать Лаина Кубера и принять его предложение. Я объяснила этому невежде, что человека с таким именем не существует, так как Лаин Кубер — один из персонажей романов Каракса. Странный посетитель не собирался покупать книги. Он только хотел узнать, где они хранятся. Сеньор Кабестань обычно оставлял себе по одному экземпляру каждого опубликованного в его издательстве произведения. Это же касалось и романов Каракса. Все книги стояли в книжном шкафу в кабинете. Я немедленно поднялась туда и забрала их.
В тот же вечер я отправилась к отцу на Кладбище Забытых Книг и спрятала романы там, где никто, в том числе и Хулиан, не смог бы их обнаружить. Уже стемнело, когда я уходила оттуда. Спустившись по Лас-Рамблас, я добралась до Барселонеты и побрела по пляжу, пытаясь найти то место, где мы с Хулианом в последний раз любовались морем. Пожар, полыхавший в Пуэбло Нуэво, был виден издалека. Янтарно-огненные языки пламени плескались над морем, облизывая небо, а клубы дыма черными сверкающими змеями поднимались вверх. Когда на рассвете пожарным удалось, наконец, справиться с огнем, от нашего склада не осталось ничего, кроме остова из металла и камня, поддерживавшего крышу. Там же я встретила Льюиса Карбо, десять лет прослужившего на складе ночным сторожем. Он с грустью взирал на дымящиеся руины, все еще не веря своим глазам. Брови и волосы у него были опалены огнем, а кожа блестела, как мокрая бронза. Он рассказал мне, что пожар начался около полуночи и до рассвета уничтожил тысячи книг, превратив их в гору пепла. Льюис все еще сжимал в руках сборник стихов Вердагера[101] и два тома истории Французской революции, которые успел вытащить из огня. Больше ничего спасти не удалось. На помощь пожарным пришли многие члены профсоюза. Один из них сообщил мне, что при разборе завалов было обнаружено сильно обгоревшее тело. Сначала человека сочли погибшим, но потом кто-то заметил, что он еще дышит, и его отправили в больницу Дель Map.
Я узнала его по глазам. Кожу, руки и волосы опалил огонь, тело под бинтами было сплошь живой раной. Доктора не верили, что он выживет, и его, накачанного морфином, перевели умирать в маленькую изолированную палату в конце коридора с видом на пляж. Я хотела взять его за руку, но одна из медсестер предупредила меня, что под повязкой почти нет живой плоти. Огонь уничтожил его веки, и его теперь навсегда открытые глаза смотрели в пустоту. Медсестра, которая увидела, как я валяюсь на полу и рыдаю, спросила, знаю ли я пострадавшего. Я ответила, что это мой муж. Когда в палату зашел священник, торопившийся благословить умирающего, я накричала на него и прогнала прочь. Прошло три дня, а Хулиан был все еще жив. Врачи утверждали, что это чудо и желание жить в нем так сильно, что ни одно лекарство не способно сравниться с ним. Они ошибались, это не было желание жить. Это была ненависть. Спустя неделю, когда стало ясно, что тело, тронутое печатью смерти, упорно продолжает ей сопротивляться, Хулиана официально зарегистрировали как Микеля Молинера. Ему пришлось провести в больнице еще одиннадцать месяцев. Одиннадцать месяцев в молчании, с горящими, всегда открытыми глазами, не знающими покоя.
Я приходила к нему каждый день. Вскоре все медсестры обращались ко мне на «ты» и даже приглашали пообедать с ними в сестринской. Все они были одинокие, сильные духом женщины, ожидавшие своих мужчин с фронта. Некоторые возвращались. Меня научили промывать и обрабатывать ожоги Хулиана, накладывать ему повязки, менять простыни и заправлять постель, беспокоя его как можно меньше. А еще меня научили не питать надежд когда-либо вновь увидеть в этом сожженном человеке того, кем он был раньше, до страшного пожара. На третий месяц ему сняли повязки с лица. Голова Хулиана стала похожа на голый череп. У него не было больше ни губ, ни щек. То, что теперь было на месте лица, напоминало голову сожженной куклы. Глазные впадины увеличились, и живыми на его лице казались только глаза. Медсестры никогда мне об этом не говорили, но я знала, что при виде Хулиана они испытывали отвращение и страх. Врачи объяснили, что на месте ожогов, по мере того как заживают раны, начнет медленно нарастать новый слой кожи, но он будет уже поврежденным, фиолетовым, похожим на кожу рептилии. Никто из медиков не осмеливался делать предположения по поводу его душевного состояния. Все сошлись на том, что Хулиан-Микель в огне потерял рассудок и теперь ведет растительное существование, не умирая только благодаря самоотверженным заботам супруги, не теряющей надежды в ситуации, когда у других на ее месте давно бы опустились руки. Но я смотрела в глаза Хулиана и знала, что он где-то там внутри и что он продолжает терзать себя. И ждать.