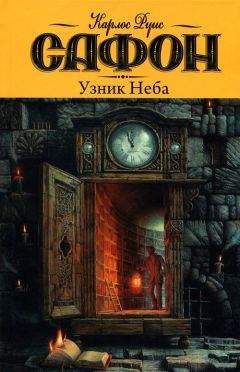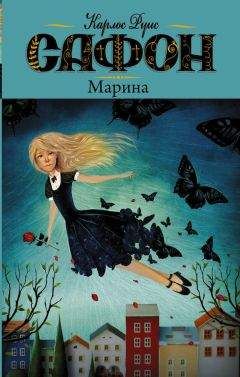У него сгорели губы, но врачи считали, что голосовые связки не пострадали, а ожоги языка и горла зажили несколько месяцев назад. Все придерживались мнения, что Хулиан ничего не говорит, поскольку лишился рассудка. Однажды вечером, спустя шесть месяцев после того страшного пожара, мы остались наедине в его палате. Наклонившись к нему, я поцеловала его в лоб.
— Я люблю тебя, — сказала я.
Горький звук, почти хрип, вырвался из подобия собачьей пасти, бывшей когда-то ртом. Глаза Хулиана покраснели от слез. Я хотела вытереть их платком, но звук снова повторился.
— Оставь меня, — хрипло произнес Хулиан.
Издательский дом Кабестаня обанкротился через два месяца после пожара в Пуэбло Нуэво. Старый Кабестань, умерший в тот же год, предсказывал, что сын за полгода разорит семейное предприятие. Неисправимый оптимист, он так и остался им до самой своей смерти. Я пыталась найти работу в другом издательстве, но война сожрала их все. Мне говорили, что она скоро закончится и наступят лучшие времена. Но впереди были еще два года войны, а то, что наступило после, оказалось чуть ли не страшнее. После пожара прошел год. Врачи сказали, что все, что можно было сделать в условиях больницы, они сделали. Ситуация в стране была тяжелая, поступало много раненых, которые нуждались в свободных палатах. Мне посоветовали поместить Хулиана в какой-нибудь санаторий, например в приют Святой Лусии, но я отказалась. В октябре 1937 года я забрала его домой. С тех пор как я услышала от него: «Оставь меня», он не произнес ни слова.
Каждый день я снова и снова говорила Хулиану, что люблю его. Он сидел в кресле напротив окна, укрытый одеялами. Я кормила его гренками, соком, иногда, когда удавалось достать, молоком. Каждый день я часа по два читала ему вслух. Бальзак, Золя, Диккенс… Его тело медленно обретало форму. Очень скоро он начал двигать руками, поворачивать голову. Иногда, вернувшись домой, я замечала, что одеяло свалилось на пол, а некоторые вещи разбросаны. Однажды я обнаружила Хулиана на полу, он пытался ползти. Спустя полтора года со дня пожара как-то посреди ночи меня разбудила гроза. Я почувствовала, что кто-то сидит на постели и гладит мои волосы. Я улыбнулась ему, стараясь скрыть слезы. Хулиану удалось найти одно из зеркал, которые я тщательно прятала от него. Слабым голосом он сказал мне, что превратился в Лаина Кубера — монстра из своего романа. Я хотела поцеловать его, показать, что его лицо не вызывает во мне отвращения, но он не позволил. Вскоре Хулиан уже не позволял мне даже дотронуться до себя. К нему постепенно возвращались силы. Он бродил по дому, пока я уходила, чтобы добыть что-нибудь к обеду. Все это время мы жили на сбережения Микеля, но скоро мне уже пришлось продавать драгоценности и ненужные вещи. Когда ничего больше не осталось, я взяла футляр с ручкой Виктора Гюго, купленной когда-то в Париже, и пошла предлагать ее тому, кто даст лучшую цену. На продавца магазина мои клятвенные заверения, что ручка принадлежала великому Гюго, не произвели большого впечатления. Однако он согласился с тем, что вещица довольно редкая, и предложил мне заплатить сколько сможет, принимая во внимание военное время и то, что страна переживает крайнюю нужду и лишения.
Когда я рассказала Хулиану, что продала ручку, я боялась, что он выйдет из себя. Но он лишь ответил, что я правильно поступила, потому что он ее не заслуживал. Однажды я как обычно ушла искать работу. Вернувшись домой, Хулиана я не застала. Его не было до самого рассвета. В ответ на мой вопрос, где он был, Хулиан достал из кармана пальто, прежде принадлежавшего Микелю, несколько смятых купюр и положил на стол. С того дня он стал куда-то уходить почти каждую ночь. Закутанный в пальто и шарф, в натянутой на глаза шляпе и в перчатках он казался очередной ночной тенью, неотличимой от прочих. Хулиан никогда не говорил мне, куда уходит. Возвращаясь, он приносил деньги или драгоценности. Спал он по утрам, сидя в кресле с открытыми глазами. Как-то раз, случайно, я обнаружила в его кармане обоюдоострый нож с лезвием, которое выбрасывалось автоматически. Сталь была покрыта бурыми пятнами.
Именно тогда на улицах поползли слухи о каком-то человеке, разбивающем по ночам витрины книжных магазинов и сжигающем книги. Иногда странный вандал забирался в библиотеки и дома коллекционеров. Он всегда уносил с собой несколько томов, которые потом сжигал. В феврале 1938 года я пришла в одну букинистическую книжную лавку и спросила, можно ли найти в городе какую-нибудь книгу Хулиана Каракса. Хозяин ответил, что это практически исключено: кто-то их планомерно уничтожает. У него самого было несколько романов Каракса, но он не так давно продал их странному незнакомцу, чей голос было невозможно расслышать, и который тщательно скрывал свое лицо.
— Еще совсем недавно оставалось несколько экземпляров этих книг в частных коллекциях Испании и Франции. Но многие владельцы предпочли избавиться от них. Они боятся, и я их не виню.
Иногда Хулиан исчезал на несколько дней. Затем он стал отсутствовать неделями. Он уходил и возвращался всегда по ночам. И всегда приносил деньги. Он никогда ничего не объяснял, а если и рассказывал что-то, это были лишь бессвязные эпизоды. Он говорил, будто уезжал во Францию. Париж, Лион, Ницца… Порой из Франции на имя Лаина Кубера приходили письма. Все они были от букинистов и библиофилов. Иногда кто-то из них сообщал, что обнаружил экземпляр романа Каракса. Тогда Хулиан надолго исчезал и возвращался страшным, как волк, от которого несло гарью и злобой.
В один из его отъездов, гуляя по галереям собора, я случайно встретила шляпника Фортуня. Он все еще помнил меня с того самого дня, когда, два года назад, мы с Микелем пришли в его мастерскую узнать о Хулиане. Шляпник отвел меня в угол и сообщил по секрету, что знает, что сын жив, но подозревает, что Хулиан не может связаться с нами по причине, которую он не может угадать. «Должно быть, из-за этого негодяя Фумеро». Я заверила его, что тоже так думаю. Годы войны оказались очень успешными для Фумеро. Он менял покровителей каждый месяц. Сначала это были анархисты, потом коммунисты, потом все, на кого кривая выведет. И все они величали его шпионом, наемником, героем, убийцей, конспиратором, интриганом, спасителем или демиургом. Но это не имело никакого значения. Все они боялись Фумеро. И все хотели видеть его своим союзником. Слишком занятый интригами в прифронтовой Барселоне, Фумеро, казалось, забыл о Хулиане. Вероятно, он, как и шляпник, думал, что Каракс давно сбежал и найти его невозможно.
Сеньор Фортунь поинтересовался, давно ли я знаю Хулиана. Я ответила, что очень давно. Тогда он попросил меня рассказать ему о сыне, о том человеке, каким он стал, ведь сам он, с грустью признался мне шляпник, никогда не имел возможности узнать Хулиана. «Жизнь разлучила нас, понимаете?» Он обошел все книжные магазины Барселоны в поисках хотя бы одной книги Хулиана, но так и не смог ничего найти. Ему рассказали, что какой-то сумасшедший тоже разыскивает эти книги, чтобы потом сжечь их. Шляпник был уверен, что это дело рук Фумеро. Я не стала разубеждать его. Я лгала, как умела, из жалости или со зла — не знаю. Я сказала Фортуню, что Хулиан, скорее всего, вернулся в Париж, что у него все в порядке и что, как мне казалось, он очень дорожит своим отцом. «Из-за этой войны, — сетовал шляпник, — все порушилось». Перед тем как проститься, он настоял на том, чтобы я взяла его адрес и адрес его бывшей жены, Софи, отношения с которой у него наконец наладились, «после стольких лет недоразумений». Софи жила в Боготе с преуспевающим доктором, рассказал мне Фортунь. Она открыла частную музыкальную школу и в письмах всегда спрашивала о Хулиане.
— Это единственное, что нас все еще объединяет, понимаете? Только эти воспоминания. В жизни ты совершаешь много ошибок, но лишь в старости начинаешь понимать это. Скажите, а вы верите в Бога?
Я попрощалась, пообещав шляпнику написать ему и Софи, если у меня будут новости о Хулиане.
— Его мать будет счастлива вновь услышать о своем сыне. Вы, женщины, больше верите сердцу, чем всяким глупостям, — печально заключил он. — Потому и живете дольше.
Несмотря на все неприятные слухи, которые ходили о Фортуне, я вдруг испытала острую жалость к несчастному старику. В этой жизни ему только и оставалось, что поджидать сына, лелея пустые надежды обрести утраченное благодаря чудесному вмешательству какого-нибудь из многочисленных святых, которым он так благоговейно молился в часовнях собора. Раньше я представляла его чудовищем, злобным и коварным существом, но сейчас шляпник показался мне добродушной, слепой жертвой заблуждений, как все мы. То ли оттого, что он чем-то напоминал мне моего собственного отца, который прятался ото всех, и в первую очередь от самого себя, среди книг и теней, то ли оттого, что, сам того не подозревая, стал еще одной нитью, связывающей меня с Хулианом, поскольку мы оба ничего так не желали, как вновь быть рядом с этим человеком, я прониклась к старому шляпнику тихой нежностью и стала его единственным другом. Не рассказывая об этом Хулиану, я часто навещала его отца в доме на Сан-Антонио. Он уже не работал.