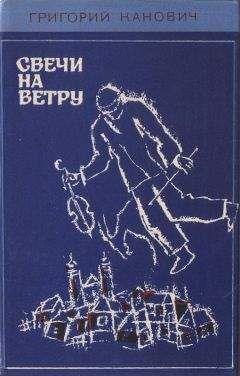Профессор строчил карандашом, Юдл-Юргис распространялся о дымоходах, а я смотрел на них, и еще одной каплей стало больше в Еврейском море…
На ратуше развевался немецкий флаг со свастикой, напоминавшей вычерченные мелом и полустертые ботинками классы на нашем местечковом тротуаре. Что она обозначала, я не знал, но впечатление производила скверное. Не то что серп и молот. Серпом жнут, молотом куют, а что делают со свастикой?
За два с лишним года у нас сменились три флага, и это, наверно, еще не конец.
Когда-то мануфактурщик Гольдшмидт, глядя, как дворник прикрепляет к его кирпичному дому новое полотнище, сказал:
— Сшил бы ты лучше из него, Казимерас, для себя рубаху. Меньше красоты, больше пользы.
В самом деле, что за польза от флага?
С минуты на минуту должен был прийти Пранас. Он задерживался, и я уже начал беспокоиться, не приключилось ли с ним чего-нибудь, работа у него, прямо скажем, опасная, белым фельдшерским халатом никого не проведешь. Если Пранукас сейчас попадется, он тюрьмой не отделается.
Мимо меня сновали прохожие.
Процокала девица, улыбнулась мне.
И я ей улыбнулся.
Куда она спешит? На свидание? На службу?
Подошел слепой с клюкой, попросил:
— Переведите меня, пожалуйста, на другую сторону улицы.
Разве откажешь слепому?
Я взял его под руку и повел.
— Ты кто? — спросил он.
— Я?.. Владас…
— Чем занимаешься?
— Работаю на фабрике.
— На какой?
— На мебельной.
Меня вдруг охватило странное и обидное волнение. Чего ради он затеял допрос?.. Какое ему дело, как меня зовут, на какой фабрике я работаю. Пусть скажет спасибо, и баста…
— А почему у тебя голос дрожит? — не унимался слепец.
— У меня? Дрожит?..
— И говоришь ты не чисто… с акцентом… У слепых абсолютный слух… я сразу усек…
Брось его, брось его, нашептывал голос. И — деру, пока не поздно… Пока он не передал тебя в лапы полиции… Он как-нибудь сам доберется на другую сторону улицы, мостовая пуста, ни одной машины, под колеса не попадет, а ты попадешь… попадешь…
Слепой еще крепче сжал мою руку. У него не только слух абсолютный, но и сила, просто силища. Того и гляди, сплющит тебя, раздавит.
— Пан мыслешь, же я естем вариатем?
Бежать! Бежать!
Я вырвал руку, оставил слепого посреди мостовой и, пока он не опомнился, юркнул в толпу прохожих.
— Еврей! Держите еврея! — сотрясал улицу высокий дискант.
Слепец тыкал клюкой в воздух, как в мостовую.
Прохожие останавливались и, словно по уговору, забыв про свои заботы, про свою службу, про свои пути-дороги, разглядывали друг друга — носы, глаза, волосы — и следовали дальше.
А слепой размахивал палкой и кричал:
— Держите еврея! Держите еврея!
Наконец он замолк и сам растворился в толпе.
Боже праведный, думал я, прячась за углом, неужели в этом мире без опаски для жизни нельзя перевести на другую сторону улицы слепого?
Чем ему так досадили евреи?
Глаза ему выкололи?
Детей забрали?
Что за проклятие, что за вина лежит на нас?..
Я и не заметил, как пришел Пранас.
— Ты чего тут прячешься, горе-конспиратор? — прошептал он. — Так ты, дружок, сразу обратишь на себя внимание.
— Да я тут чуть не попался!..
Пранас оглянулся.
— Как?
— Слепого переводил на другую сторону улицы, а его, видишь ли, покоробило мое литовское произношение.
— Зачем же ты с ним вступил в разговоры?
— Человек спрашивает — я отвечаю…
— Впредь ты, дружок, будешь умнее.
— Умней — нет. Осторожнее.
— Сматываемся отсюда, — сказал Пранас. — Сейчас слепой может оказаться зрячим, а зрячий — слепым.
— Слепых зрячих больше. Вон их сколько! — кивнул я на толпу. — Неужели они не видят, что вокруг них творится?
— Видеть мало. Действовать надо. Действовать. Пошли, товарищ поводырь!
Мы дошли до парка, того самого, где я, возвращаясь от Циценасов, пьяный, спал на скамейке, выбрали укромный уголок, у самой речки, и примостились на как бы опрысканной охрой и выскобленной осенью траве.
Речка навевала покой.
На противоположном берегу бродила белая и счастливая коза. Она лениво пощипывала скудную охру и время от времени запрокидывала вверх свою легкую красивую голову, подолгу что-то высматривая в холодном небе. Видно, и у нее были какие-то сокровенные козьи мечты, а может статься, и молитвы. Только уж если господь бог круглый год глух к человеку, то на что может рассчитывать поздней осенью коза?
— Я принес тебе письмо, — сказал Пранас, щекоча меня былинкой.
— От кого?
— От доктора Бубнялиса.
— Мне?.. Не щекотись!
— Ты передашь его Абелю Авербуху, директору еврейского приюта… — Пранас что-то вывел былинкой на моей щеке.
— Что ты щекотишься?
— Я написал у тебя на щеке фамилию: Абель Авербух…
— Может, ты и письмо туда перепишешь…
— Письмо заклеено… Ладно, не обижайся, — сказал Пранас и бросил былинку в речку.
— Хорошо, — сказал я. — Передам.
— Не так-то это просто… Абель Авербух ушел со своими сиротами под землю…
— Ну уж оттуда я его не выкопаю.
— А его выкапывать нечего. Он иногда сам показывается на поверхности… Всплывает, так сказать, за продовольствием, за лекарствами…
— У меня есть знакомая медсестра. Сарра. Жена часовщика из Германии.
— Помню, — сказал Пранас.
— Она должна его знать.
— Может быть…
— А как с ними… с золотарями… Кто-нибудь говорил?
— Говорили.
— Ну?
— Пока худо.
— Отказываются?
— Выжидают.
— Цену набивают… Между прочим, Сарра обещала мне ожерелье… настоящее… золотое…
— Деньгами их не прошибешь… Они, понимаешь, даже не за себя боятся…
— За детей?
— И не за детей… Хотя им и жалко их…
— Тогда за кого же?
— Бочку — пожалуйста, сбрую, — берите, а вот лошадь… лошадь — ни в какую…
Пранас подробно объяснил положение. Положение, как он выразился, неопределенное. А время не терпит. Скоро нагрянут холода, и операция может сорваться, потому что в мороз золотари бездельничают, никто дерьмо не вывозит, оно смерзается в лед, не долбить же его ломами, не растапливать, как гусиный жир.
Ждать весны? До весны далеко. Пока лед растает, дети вымрут или их переловят. Переловили же всех голубей, чтоб их в пищу не употребляли. Воробьи, и те не залетают в гетто, нечем им, бродягам, поживиться, каждую кроху тут слизывают языком, а не клювом.
Золотарям дороги их дети и их лошади. Где же раздобыть ледащую клячу, для начала хоть бы одну?
Могильщиком я был, в трубочисты записался, могу для пользы дела стать конокрадом.
Или самому впрячься в бочку?
Будь моя воля, я бы впрягся.
Если можно на человеке пахать, то почему же нельзя возить на нем золото?
Вот это было бы зрелище!
Весь город ходил бы за подводой: и господин адвокат, и девица, которая мне улыбнулась, и слепец, который бы прозрел от такой картины.
Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!
— И все-таки мы их уломаем, — сказал Пранас. — Предложим приличный выкуп и уломаем… Жизнь одного человека стоит дороже, чем табун лошадей.
— Сейчас табун людей стоит меньше, чем лошадь, — сказал я.
— Ну ты известный пессимист, — заметил Пранас.
— А это что за партия?
— Самая многочисленная… те, кто верит только в плохое.
— Я верю только в хорошее, — сказал я.
— Например?
— В лошадь, — сказал я.
— Этого мало, — вставил Пранас. Для него, для вожака молодежи, может быть, этого и мало, но для меня вполне достаточно… во всяком случае до тех пор, пока мы не вывезем сирот Абеля Авербуха. А потом-потом я стану еще во что-нибудь верить… я и сам не знаю, во что…
С речки веяло прохладой. Коза подошла к голой раките и стала тереться о нее своим впалым боком. Розовое пушистое вымя раскачивалось, как колокол, и негромкий молочный звон колебал мои уши.
Сидеть бы так и сидеть, думал я, смотреть бы на козу и тереться боком о свою ракиту — о косяк двери в родной избе, о край надгробия на местечковом кладбище, о бабушку…
Вот в кого я еще верю!..
— Засиделись мы тут с тобой, — сказал Пранас. — Пора.
Я не слышал его. Я все терся боком о свою ракиту.
— Ты, что, не слышишь?.. Пора!..
— Ты когда-нибудь трешься боком о ракиту? — спросил я у него.
— Я не коза, — прыснул Пранас.
— Козел ты, — сказал я.
Я встал, отряхнул с себя травинки, покосился на противоположный берег, и на миг мне показалось, будто коза встрепенулась, ее дымчатая спина напряглась и выгнулась, и по ней, по спине, осенний ветер, взъерошив, погнал прощальный одуванчиковый пух.
— Встречаемся тут же, у речки… Через два дня… В двенадцать, — отчеканил Пранас.
— У меня нет часов.