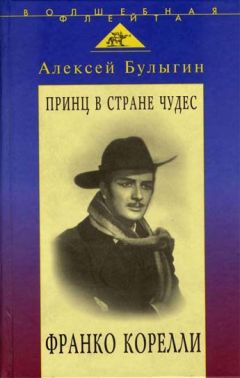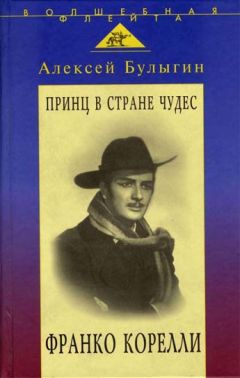Ниже Вебер приписал на итальянском: «Храни вас Бог, я буду помнить вас всегда».
Пелагия спрятала проигрыватель в подполе вместе с мандолиной Антонио и исповедальными записями Карло, и он пережил братоубийство.
История повторяется – сначала как трагедия, а потом – снова как трагедия. Немцы убили около четырех тысяч итальянских парней, включая сотню санитаров с красными крестами на нарукавных повязках, тела сожгли или утопили в море в загруженных балластом баржах. Но другие четыре тысячи уцелели, и, в точности как на Корфу, британцы разбомбили корабли, увозившие их в трудовые лагеря. Большинство пошло на дно с кораблями, а те, кто сумел прыгнуть в море, были расстреляны из пулеметов немцами, и снова их тела остались плавать на поверхности.
Немцы ушли, и начались торжества, но колокольный перезвон возвестил о них не раньше, чем боевики ЭЛАС, называвшие себя теперь ЭАМ, вышли из своей зимней спячки и навязали себя народу с помощью британского оружия, ошибочно поставленного в убеждении, будто его используют для борьбы с фашистами. Действуя, по их словам', по приказам Тито, они сформировали советы и комитеты рабочих и принялись единогласно избирать себя на все руководящие посты, вымогая налог в четвертую часть со всего, что могли придумать. На Занте жители, сочувствовавшие монархистам, вооружились и превратили свои дома в укрепления, а на Кефалонии коммунисты начали выдворять неудобных личностей в концентрационные лагеря; они годами наблюдали с безопасного расстояния за гитлеровцами и приобрели большой опыт во всем искусстве зверства и подавления. Гитлер гордился бы столь прилежными учениками. Их тайная полиция (ОПЛА) выявила всех венизелистов и монархистов и записала их в фашисты.
На материке они захватывали провизию Красного Креста, отравляли колодцы во враждебно настроенных деревнях, бросая в них дохлых ослов и трупы инакомыслящих, требовали четвертую часть продуктов, прибывших в Пирей для облегчения положения в Афинах, распространяли газету, словно в насмешку озаглавленную «Алитеа»,[171] полную лжи об их героизме и трусости всех остальных, без разбору избавлялись от всех неудобных под предлогом, что те были «коллаборационистами», нанимали проституток, чтобы завлечь британских солдат на линию огня, сами маскировались под английских солдат, сотрудников Красного Креста, полицейских или горноспасателей, использовали детей с белыми флагами, чтобы сработали хитрости, которые должны были привести в засаду. Они обстреливали посетителей магазинов и британских солдат, раздававших еду голодающим, взяли в заложники 20 000 невиновных, расстреляли 114 социалистических, но не коммунистических руководителей профсоюзов, разрушили фабрики, доки и железные дороги, которые немцы оставили нетронутыми. В общие могилы они швыряли трупы греков – кастрированные, со ртами, разрезанными в «улыбку», с выколотыми глазами. Они вынудили 100 000 человек стать беженцами и, что хуже всего, насильно забрали 30 000 маленьких детей, отправив их на кораблях за границу, в Югославию, на идеологическую обработку. Бойцы ЭЛАС, захваченные англичанами, умоляли не обменивать их на пленных – такой ужас они испытывали перед своим начальством, – а простые греки молили британских офицеров о помощи. Некий дантист в Афинах предлагал по три вставных зуба каждому военнослужащему.
Всё это было и смешно, и грустно. Смешно было то, что если бы коммунисты продолжили свою политику абсолютного ничегонеделанья времен войны, они бы, несомненно, стали первым в мире свободно избранным коммунистическим правительством. Если во Франции коммунисты заслужили себе законное и уважаемое место в политической жизни, то греческие коммунисты сделали себя надолго неизбираемыми, поскольку даже сами члены партии не могли заставить себя голосовать за них. Трагедия была в том, что это был еще один шаг по обреченному пути, на котором коммунизм вырастал в Величайшую и Самую Человечную Идеологию, Никогда Не Могущую Быть Осуществленной, Даже Если Она Находится у Власти, или, может быть, в Самое Благородное из Всех Дел по Притягиванию к Себе Всех Отменных Бандитов и Оппортунистов.
Из всех миллионов жизней, непоправимо загубленных этими хулиганами, жизни Пелагии и доктора были всего лишь двумя. Доктора уволокли в ночь трое вооруженных людей, решивших, что раз он республиканец, то, следовательно, должен быть фашистом, а раз он врач, то, следовательно, должен быть буржуем. Они швырнули Пелагию в угол и избили стулом до потери сознания. Когда Коколис вышел из дома, чтобы защитить доктора, его тоже увели, хоть он и был коммунистом. Этими действиями он выдал нечистоту своей веры, и монархист Стаматис поддерживал его под руку, когда их троих погнали в толпе в доки для отправки.
Пелагия не знала ни что случилось с отцом, ни куда его забрали, и никто из властей ничего не говорил ей. Одна в доме, без гроша и без надежды, сраженная вторым приступом безутешного отчаянья, она впервые в жизни подумала о том, чтобы самоубийством покончить со всем этим. Она не видела никакого будущего, кроме последовательной сменяемости одного типа фашизма другим, на острове, который, казалось, проклят и навсегда предназначен быть частью чьей-то чужой игры; игры, в которой менялись циничные игроки, но фишки у всех вылеплены из костей, крови и плоти невинных и слабых. Когда же вернется Антонио? Война тащилась по Европе, и он, вероятно, погиб. В этой жизни ее красота была бы обглодана нуждой, здоровье – голодом. Она бродила из комнаты в комнату, эхо ее шагов разносилось по опустевшему, но такому любимому дому, и сердце болело за себя и за все человечество. По радио сказали, что гитлеровцы отправили на убой около 60 000 греческих евреев, а теперь свои же убивали собственных братьев, как будто фашисты были всего лишь полицейскими, отбытия которых с нетерпением ожидали братоубийцы. Она слышала, что коммунисты уничтожают итальянских солдат, которые пришли сражаться бок о бок с ними против немцев. Она вспомнила радостных мальчиков из «Ла Скалы», вспомнила, как говорила, что всегда будет ненавидеть фашистов. Неужели в результате настало время всегда ненавидеть греков? Среди людей разных национальностей, врывавшихся в дом, чтобы избить ее и украсть ее пожитки, только итальянцы, казалось, были безобидными. Она подумала: как же медлят с приходом англичане; что стало с лейтенантом Кроликом Уорреном? Она бы не удивилась, если б узнала, что вскоре после освобождения коммунисты пригласили его на вечер и застрелили. Этот человек сказал ей: «Для греков я сделал бы что угодно. Я полюбил их». А если она ненавидит греков, к какому же народу теперь она принадлежит? И вот она – без отца, без имущества, без еды, без любви, без надежды, без страны.
К счастью, у нее остался друг. Дросула давно поняла, что Пелагия разлюбила Мандраса и никакой свадьбы не будет: долгим отсутствием и долгим молчанием ее сын утратил свои права. Она знала и то, что Пелагия ждет итальянца, и все же вовсе не чувствовала горечи и ни разу не произнесла ни единого слова обвинения. После того, как увели отца, обливающаяся кровью Пелагия с трудом вошла в ее дом и бросилась к ней в объятья, и Дросула, тоже настрадавшаяся, гладила ее по голове и говорила слова, какие мать говорила бы дочери. Через неделю она заперла двери и ставни своего домишки у причала и переехала в докторский дом на холме. В ящике стола она нашла итальянский пистолет с патронами и держала его при себе на случай, если вернутся фашистские свиньи.
Как и Пелагию, война уменьшила Дросулу. Ее крупное, некрасивое, лунообразное лицо ссохлось и приобрело, несмотря на толстые губы и тяжелые брови, возвышенно-печальный вид. Бодрые булочки жира на ляжках опали, а массивный выступ материнской груди опустился на место, освобожденное былым избытком живота. Начал беспокоить артрит в колене и суставах бедра, и больно было видеть, как она теперь ходит, потихоньку подволакивая ногу каким-то дерганым механическим движением. Однако новая непривычная стройность добавила достоинства ее огромному росту, а седые волосы внушали уважение и делали ее более грозной. Дух ее был не сломлен, и она давала Пелагии силы жить.
Они спали вместе на докторской кровати, чтобы было теплее, а днем придумывали способы, как достать что-нибудь из еды, плакались друг другу и рассказывали небылицы. Искали корни в зарослях, проращивали в мисках древние бобы, смертоносно нарушали зимнюю спячку ежиков. Дросула отводила свою юную подругу к скалам, чтобы та научилась ловить рыбу и находить под камнями крабов, а домой возвращалась с морскими водорослями, заменявшими им овощи и соль.
Но Дросулы не было дома в тот час, когда вернулся Мандрас – весь в ожидаемой славе и новых идеях, рассчитывающий на покорное и восхищенное внимание своей невесты, которую не видел столько лет, и полный решимости потребовать реванша.