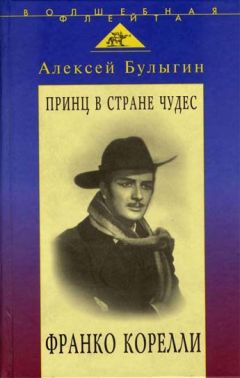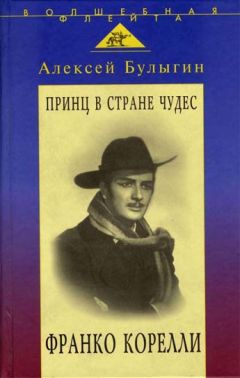Он вошел в дверь без стука, сбросил с плеч рюкзак и прислонил к стене винтовку «лиэнфилд». Пелагия сидела на кровати, делая завершающие стежки на покрывале, которое когда-то вышивала к своей свадьбе; со дня отъезда Антонио оно чудесным образом расцвело. Так без него она создавала их совместную жизнь, и в каждый стежок, в каждый узелок вкладывала все запутанные стремления своей одинокой души. Услышав шум на кухне, она окликнула:
– Дросула?
Она не узнала вошедшего мужчину – только увидела, что он очень похож на Дросулу до войны. Такие же раздутые ляжки и живот, то же круглое, шероховатое лицо, те же тяжелые брови и толстые губы. Три года жизни в праздности за счет англичан и добычи, награбленной у крестьян, превратили красивого рыбака в жабу. Пелагия в растерянности поднялась.
Мандрас тоже был ошеломлен. В этой тощей, испуганной девушке еще оставалось что-то, напоминавшее Пелагию.
Но у этой безгрудой женщины в жидких черных волосах вились серебряные нити, ее мягкие юбки свисали прямо до земли, потому что не было округлых бедер, губы потрескались и запеклись, а щеки ввалились. Он быстро оглядел комнату: нет ли здесь Пелагии, – предполагая, что это наверняка кто-то из ее двоюродных сестер или теток.
– Мандрас, это ты? – произнесла женщина, и он узнал голос.
Он стоял пораженный – почти вся его ненависть улетучилась, он был в замешательстве и ужасе. Пелагия же, в свою очередь, смотрела на эти грубые, преобразившиеся черты и чувствовала, как ее охватывает страх.
– Я думала, что ты погиб, – произнесла она после долгого молчания.
Он закрыл дверь и прислонился к ней.
– Ты хочешь сказать – надеялась, что я погиб. Как видишь, нет. Я очень даже живой и в полном порядке. А разве я не получу поцелуй от своей нареченной?
Она робко, неохотно подошла и поцеловала его в щеку.
– Я рада, что ты живой, – сказала она.
Он схватил ее запястья и крепко сжал их.
– Не думаю, что ты рада. А кстати, как твой отец? Он дома?
– Отпусти меня, – мягко сказала она, и он послушался. Она вернулась к кровати и проговорила:
– Его забрали коммунисты.
– Что ж, значит, он чем-то это заслужил.
– Он ничего не сделал. Он лечил больных. А они избили меня стулом и все забрали.
– Значит, были причины. Партия никогда не ошибается. Кто не с нами – тот против нас.
Она заметила, что он – в форме итальянского капитана, а на околыше фуражки криво пришита звезда ЭЛАС. Жалкая карикатура на человека, который занял его место в сердце Пелагии.
– Ты – один из них, – сказала она.
Он еще небрежнее, всем своим весом навалился на дверь, и Пелагии стало еще несвободнее и страшнее.
– Но не просто один из них, – самодовольно произнес он, – а важный один из них. – Он издевался над ней. – Скоро я стану комиссаром, и у нас с тобой будет большой красивый дом. Когда мы поженимся?
Ее забила дрожь. Он заметил, и его захлестнуло бешенство.
– Мы не поженимся, – проговорила она, изо всех сил стараясь умиротворить его взглядом. – Мы были молоды и наивны, и это не то, что нам казалось.
– Не то, что нам казалось? Стало быть, я сражался за Грецию, думая о тебе все дни и мечтая о тебе все ночи… Когда я думал о Греции, я представлял, что у нее твое лицо, и сражался еще упорнее. И вот когда я наконец возвращаюсь домой, то нахожу поблекшую потаскуху, которая забыла меня. Кажется, я сказал «поженимся»? Я забылся. Забыл, что брак – это притворство. – Он процитировал «Коммунистический манифест»: – «Буржуазный брак в действительности является системой общих жен».
– Что с тобой? – спросила она.
– Со мной? – Он достал из куртки толстую связку потрепанных листков. – Вот что со мной. – Он швырнул их ей под ноги, а она медленно подняла с неприятным холодком в животе от предчувствия дурного. Держа пачку в руках, она поняла, что это были ее письма ему на албанский фронт.
– Мои письма? – спросила она, крутя в руках пачку.
– Твои письма. Как тебе известно, я не умею читать, так что я вернулся послушать, как ты снова прочтешь их. Не такая уж большая просьба, по-моему. Я бы хотел, чтобы ты начала с последнего, и от него так и пойдем назад. Давай, читай.
– Мандрас, прошу тебя! Зачем это нужно? Всё в прошлом.
– Читай, – сказал он, замахиваясь на нее. Испуганно сжавшись, она отшатнулась, загораживая лицо локтем, и непослушными пальцами распутала связывающую письма проволоку. Нашла последнее, но читать не смогла. Делая вид, что все еще ищет, выбрала одно ближе к началу. Потом прерывающимся голосом начала:
– «Агапетон, до сих пор ни словечка от тебя, и, как ни странно, у меня получается переносить это. Панайис вернулся с фронта без руки. Он сказал мне, что на фронте очень холодно и нет никакой возможности удержать ручку…»
Мандрас перебил ее.
– Ты меня за дурака держишь, тварь? Я сказал, читай последнее.
Охваченная ужасом, она рылась в листках, отыскивая последнее письмо, понимая, что он подвергает ее той же самой пытке, которую она уже претерпела так много месяцев назад. Она смотрела на застывшие строчки последнего письма, и страх отнимал у нее силы.
– «Агапетон, – начала она надтреснутым голосом, – я так сильно скучаю по тебе…»
Мандрас зарычал от отвращения и вырвал письмо у нее из рук. Держа листок к свету, он прочитал:
– «Ты ни разу не написал мне, вначале мне было грустно и тревожно, теперь я понимаю – тебе все равно, из-за этого и я потеряла свою любовь. Я хочу, чтобы ты знал – я решила освободить тебя от твоих обещаний. Прости». – Он сардонически улыбнулся – безрадостная ухмылка была зловеще-угрожающей. – Ты никогда не слышала о «Самообразовании рабочих»? Да, я умею читать. И вот что я обнаружил в письмах, которые носил рядом с сердцем. Странно – когда ты однажды читала мне это письмо, припоминается, что в нем, вроде, говорилось что-то другое. Я все гадал, как это письмо может переписаться. Чуть в ангелов не поверил. Странно, правда? Интересно, как это можно объяснить?
– Я не хотела делать тебе больно. Прости. Но по крайней мере, теперь ты знаешь правду.
– Правду?! – закричал он. – Правду? Правда в том, что ты – шлюха! И знаешь еще что? Ты знаешь, что я услышал первое, когда приехал? «Эй, Мандрас, ты слыхал о своей прежней невесте? Она собирается выйти за итальянца!» Значит, нашла себе фашиста, да? И за это я сражался? Тварь продажная!
Пелагия поднялась. Губы ее подрагивали.
– Мандрас, выпусти меня.
– «Выпусти меня», – передразнил он, – «выпусти меня». Бедняжечка испугалась, да? – Он шагнул к ней и ударил по лицу с такой силой, что она крутнулась вокруг себя, прежде чем упасть. Пнув ее ногой по почкам, он нагнулся и рывком поднял ее за запястья. Швырнул на кровать и, вопреки своим первоначальным намерениям, стал срывать с нее одежду.
Насилие над женщинами было тем, чему он, похоже, не мог противостоять. Какой-то неодолимый рефлекс поднимался из глубины груди, рефлекс, приобретенный за три года всемогущества и отсутствия ответственности, когда все началось с вооруженного присвоения собственности и закончилось присвоением всего. Естественное право, само собой разумеющееся, и его скотская жестокость бодрили бесконечно больше, чем ничтожные укусы похоти, которыми все заканчивалось. Иногда приходилось в конце убивать, чтобы вернуть крохотный остаток, след былой радости. А потом наступали скука, пустота, и они подстегивали к новым и новым повторениям.
Пелагия боролась. Ее ногти вонзались ему в тело, она молотила его руками, коленями, локтями, она визжала и извивалась. Для Мандраса она сопротивлялась непозволительно чрезмерно, и, несмотря на всю тяжесть и силу, у него ничего не получалось; тогда он отшатнулся и несколько раз, пытаясь сломить Пелагию, хлестнул ее по лицу. При каждом ударе голова у нее моталась из стороны в сторону; неожиданно он попытался задрать ей юбки. Фартук при этом сбился, и пистолет, грузно вывалившись из кармана, приземлился на подушку возле ее головы. Мандрас с дикими, остекленевшими от ярости глазами, тяжело дышавший, не заметил этого, и когда пуля с треском прошила ему ключицу, потрясение оглушило его. Он спустил ноги на пол и, шатаясь, попятился, зажав рану и глядя на Пелагию изумленно и осуждающе.
Дросула услышала щелчок пистолетного выстрела, как раз когда вошла в дом и прошла на кухню, и сначала не разобрала, что это. Но потом сообразила и быстро вытащила итальянский пистолет доктора из-под буханок черствого хлеба, за которые билась под окнами конторы компартии с оравой таких же голодных. Не раздумывая, поскольку понимала, что размышление превратит ее в трусиху, она распахнула дверь в комнату Пелагии и узрела невообразимое.
Она предполагала, что Пелагия может застрелиться, могут забраться воры, но, влетев в комнату, она увидела: докторская дочка на кровати опиралась на локти, в правой руке еще дымился пистолетик, все лицо в крови и превратилось в бесформенную массу, губы разбиты, одежда разорвана, а глаза уже заплыли и почернели. Дросула проследила за взглядом Пелагии, за ее пальцем и увидела прижавшегося за дверью к стене человека, который мог быть ее сыном. Она подбежала к Пелагии, обхватила ее руками, укачивая и успокаивая, и сквозь поскуливание ужаса разобрала слова: