Из-за собственного веса и восседавшей на мне Сяо Хуа я взлетел в воздух только метра на три, а потом стал падать. Целыми и невредимыми нам удалось остаться лишь благодаря амортизации гибких и густых крон ивняка. Лисам нас не сожрать — мы слишком велики; а диким кабанам с их развитой передней частью тела и заострённым задом мы, должно быть, приходимся близкой роднёй, и себе подобных они есть не станут. Так что приземлились мы на песчаную косу в полной безопасности.
Добывать пищу, причём очень питательную, лисам и кабанам не составляло труда, и раздобрели они до неприличия. Лисы едят рыбу, это в их привычке, но когда мы увидели, как её уминает дюжина кабанов, изумлению не было предела. Уже избалованные, они выедали лишь рыбий мозг и икру, а от вкуснейшей рыбьей мякоти нос воротили.
Осторожно поглядывая, кабаны постепенно подступали к нам. Свирепый блеск в глазах, длинные клыки, пугающе бледные под светом луны. Сяо Хуа крепко сжала меня ногами, и я ощутил, как она задрожала всем телом. С ней на спине я отступал и отступал, стараясь не дать им окружить нас веером. Я подсчитал, сколько их: девять голов, самцов и самок. Весом примерно двести цзиней каждый, неповоротливые и неуклюжие, вытянутые головы и морды, остроконечные уши как у волков, длинная щетина, отливающая чёрным, упитанные — от них исходила мощь дикой природы. Во мне весу пятьсот цзиней — этакая небольшая лодка, — в бытность человеком и за последующие перерождения ослом и волом я набрался ума и силы, и в бою один на один никто из них мне не соперник. Но в схватке с девятерыми у меня, вне сомнения, никаких шансов остаться в живых. В голове тогда крутилось одно: отступать, отступать и отступать к воде, прикрывая Сяо Хуа, чтобы она спаслась бегством, а потом буду биться, полагаясь на свою смекалку и мужество. Они вон рыбьими мозгами и икрой обжираются и соображают уже, наверное, почти как лисы. Мне своими расчётами их с толку не сбить. Я заметил, что двое зашли с фланга и двинулись в обход, чтобы окружить нас, прежде чем я отступлю до воды. Тут до меня дошло, что всё время отступать — тупиковый путь, нужно смело производить вылазки, с помощью обманных манёвров прорвать кольцо окружения и выйти на оперативный простор в центре косы. Действовать по выработанной Мао Цзэдуном тактике ведения партизанской войны, заставлять их перемещаться, разбить по одному. Я чуть встряхнул Сяо Хуа, чтобы сообщить о своих намерениях.
— Великий Вождь, беги сам, обо мне не беспокойся, — тихо проговорила она.
— Нет, так не пойдёт. Мы опора друг для друга, заодно как брат и сестра, где я, там и ты.
И с этими словами я яростно бросился на вышедшего прямо на меня кабана. Тот в панике попятился, а я резко повернулся и налетел на самку, что надвигалась с юго-востока. Наши головы столкнулись, послышался звон, как от разбитой посуды, и я увидел, что она откатилась на чжан в сторону. В окружении пробита брешь, но я уже чувствовал их дыхание сзади. Громко хрюкнув, я рванулся на юго-восток. Но Сяо Хуа за мной не последовала. Я спешно притормозил и обернулся. В зад бедняжки Сяо Хуа, милой Сяо Хуа, единственной, кто изъявил желание последовать за мной, преданной Сяо Хуа, уже впился свирепый кабан. От её горестного вопля побелел, как снег, лунный свет.
— Отпусти её! — взревел я и, забыв обо всём, рванулся к обидчику.
— Великий Вождь, беги, не беспокойся обо мне! — воскликнула Сяо Хуа.
— Вот ты дослушал до этого места, неужели тебя всё это ничуть не тронуло? Неужели ты не почувствовал, что мы, хоть и свиньи, но поведение наше куда как возвышенное?
Кабан не отпускал её, вгрызаясь всё глубже, и от её крика я чуть не свихнулся. Что значит «чуть не свихнулся» — очень даже, мать его, свихнулся. Но набежавшие сбоку два хряка заступили мне путь и не пустили спасать её. Было уже не до боевой стратегии и тактики, я выбрал одного и пошёл на него. Тот не успел увернуться, и мои зубы сомкнулись у него на шее, пронзив толстую шкуру до кости. Он сделал кувырок и убежал, оставив меня с полным ртом вонючей крови и колючей щетины. В это время подскочил другой и цапнул меня за заднюю ногу. Я как мул резко взбрыкнул задними ногами — этот приёмчик я освоил, когда был ослом, — и удар пришёлся ему по щеке. Повернувшись, я кинулся на этого подлеца, но он, взвыв, пустился наутёк. Нога невыносимо болела, целый кусок кожи откусил, гад, кровь ручьём, но теперь уже, не думая о ноге, я со свистом, как ветер, налетел на ублюдка, терзавшего Сяо Хуа. Под моим яростным натиском у этого подонка внутри что-то хрустнуло, и он преставился, даже не хрюкнув. Моя Сяо Хуа была при последнем издыхании. Когда я приподнял её, из распоротого живота вывалились кишки. Я поистине не знал, что делать с этими дымящимися, скользкими, источающими гадкую вонь штуками и беспомощно, с ноющим от боли сердцем произнёс:
— Сяо Хуа, боль моя, не уберёг я тебя…
Она с трудом открыла голубоватые глаза, на которые уже набежала тень, и, тяжело дыша, проговорила, мешая слова с кровью и пеной:
— Не буду называть тебя Великим Вождём… Буду звать братцем… Ладно?
— Конечно, конечно… — всхлипывал я. — Сестрёнка, ты мне самое близкое существо…
— Братец… Я счастлива… На самом деле счастлива… — Она уже не дышала, и ноги её вытянулись как маленькие палочки.
— Эх, сестрёнка… — С плачем я встал, решив умереть, как Сян Юй на берегу Уцзян,[220] и направился к кабанам.
В смятении те сбились вместе, но отступали слаженно и чётко и, когда я бросился на них, рассыпались, чтобы окружить. Уже без тактических приёмов я налетал на всех подряд, кусал, подбрасывал рылом, сбивал плечом, бился не на жизнь, а на смерть, наносил раны и получал их. Когда в пылу схватки мы выбрались на середину косы, перед развалинами крытых черепицей домов, брошенных военными, я увидел знакомую фигуру, сидевшую по уши в грязи рядом с каменной кормушкой для лошадей.
— Старина Дяо, ты? — воскликнул я.
— Я знал, что ты придёшь, почтенный брат. — И Сяосань повернулся к кабанам. — Я вам больше не государь, вот ваш настоящий Вождь!
Посомневавшись, кабаны как один упали на передние ноги, уткнувшись рылами в грязь, и закричали:
— Да здравствует Великий Вождь! Десять тысяч раз по десять тысяч лет!
Хотелось что-то сказать, но раз уж дело так повернулось, что тут говорить? Вот в таком отупении я и стал Вождём кабанов на косе и принял их поклонение. А правитель людей, тот, что сидит на луне, уже улетел за триста восемьдесят тысяч километров от Земли, и огромная луна сжалась до размеров серебряного блюда, так что правителя не разглядишь даже в мощный телескоп.
ГЛАВА 33
Шестнадцатый вспоминает прошлое и разузнаёт, что и как в старых местах. Пьяный Хун Тайюэ скандалит в ресторанчике
«Солнце и луна снуют по небу подобно ткацким челнокам, время летит как стрела». Незаметно пошёл уже пятый год с тех пор, как я стал повелителем кабанов на пустынной и безлюдной песчаной косе.
Поначалу я пытался внедрить на косе моногамие, полагая, что это преобразование, как проявление человеческой культуры, встретит одобрение. Никак не ожидал, что натолкнусь на отчаянное сопротивление. Причём не только со стороны самок, но и со стороны самцов, которые выражали недовольство неразборчивым хрюканьем, хотя было очевидно, что это в их интересах. В недоумении я обратился за помощью к Дяо Сяосаню. Он возлежал в шалаше, возведённом для него для защиты от ветра и дождя.
— Ты мог и не становиться правителем, — холодно заявил он, — но раз стал, должен делать, как принято.
Мне ничего не оставалось, как молча согласиться с этим жестоким и бесчувственным законом джунглей и, зажмурившись и представляя себе хрюшку Сяо Хуа, вспоминая Любительницу Бабочек, вызывая в памяти смутный образ ослихи и даже воображая формы нескольких и вовсе полузабытых женщин, спариваться как попало с самками диких кабанов. По возможности я старался избегать этого, когда можно было схалтурить, халтурил, но тем не менее спустя пару лет на песчаной косе появилось несколько десятков метисов самой разной окраски. Одни с золотистой щетиной, другие с чёрной с синеватым отливом, третьи — пятнистые, как далматинцы, которых вы нередко видите в телевизионной рекламе. Физические особенности диких кабанов они в основном сохраняли, но были значительно сообразительнее своих матерей. По мере того как стадо метисов росло, спаривание стало для меня слишком обременительным. Всякий раз с наступлением сезона течки я начинал игру в прятки, старался куда-нибудь сгинуть. В отсутствие правителя распалённым самкам приходилось быть более снисходительными в своих требованиях. И тогда возможность спариться появлялась почти у всех самцов. Вид и расцветка потомства становилась ещё более разнообразной: поросята смахивали и на ягнят, и на щенят, и на рысят, а самый чудной и страшный в приплоде одной из свиноматок имел длиннющее рыло и походил на слонёнка.

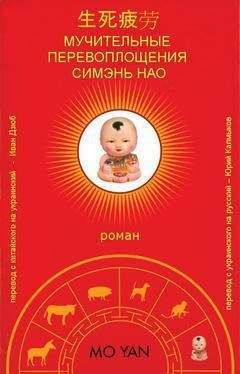



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)