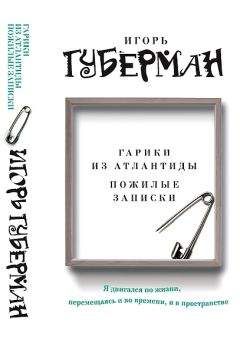Игорь Губерман - Закатные гарики. Вечерний звон (сборник)
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Игорь Губерман - Закатные гарики. Вечерний звон (сборник). Жанр: Современная проза издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.

Игорь Губерман - Закатные гарики. Вечерний звон (сборник) краткое содержание
Закатные гарики. Вечерний звон (сборник) читать онлайн бесплатно
Игорь Губерман
Закатные гарики. Вечерний звон (сборник)
Закатные гарики
Не знаю благодатней и бездонней
дарованных как Божеская милость
двух узких и беспомощных ладоней,
в которые судьба моя вместилась.
Не будь мы вдвоем, одному
пришлось бы мне круто и туго,
а выжили мы потому,
что всюду любили друг друга.
Ушли и сгинули стремления,
остыл азарт грешить и каяться,
тепло прижизненного тления
по мне течет и растекается.
Уже вот-вот к моим ногам
подвалит ворох ассигнаций,
ибо дерьмо во сне – к деньгам,
а мне большие говны снятся.
К похмелью, лихому и голому,
душевный пришел инвалид,
потрогал с утра свою голову:
пустая, однако болит.
Я не искал чинов и званий,
но очень часто, слава Богу,
тоску несбывшихся желаний
менял на сбывшихся изжогу.
Вчера взяла меня депрессия,
завесы серые развесила
и мысли черные зажгла.
А я не гнал мерзавку подлую,
я весь сиял, ее маня,
и с разобиженною мордою
она покинула меня.
Я в зеркале вчера себя увидел
и кратко побеседовал с собой;
остался каждый в тягостной обиде,
что пакостно кривляется другой.
Это был не роман,
это был поебок;
было нежно, тепло, молчаливо,
и, оттуда катясь,
говорил колобок:
до свиданья, спасибо, счастливо.
На любое идейное знамя,
даже лютым соблазном томим,
я смотрю недоверчиво, зная,
сколько мрази ютится под ним.
Слежу без испуга и дрожи
российских событий пунктир:
свобода играет, как дрожжи,
подкинутые в сортир.
Когда остыл душевный жар,
то жизнь напоминает жанр,
который досуха исчерпан.
Когда бы сам собой смывался грим
и пудра заготовленных прикрас,
то многое, что мы боготворим,
ужасно опечалило бы нас.
Надежды огненный отвар
в душе кипит и пламенеет:
еврей, имеющий товар,
бодрей того, кто не имеет.
Вижу лица или слышу голоса —
вспоминаются сибирские леса,
где встречались ядовитые грибы, —
я грущу от их несбывшейся судьбы.
Уже мы в гулянии пылком
участие примем едва ли,
другие садятся к бутылкам,
которые мы открывали.
Еврей опасен за пределом
занятий, силы отнимающих;
когда еврей не занят делом,
он занят счастьем окружающих.
Казенные письма давно
я рву, ни секунды не тратя:
они ведь меня все равно
потом наебут в результате.
Мне слов ни найти, ни украсть,
и выразишь ими едва ли
еврейскую темную страсть
к тем землям, где нас убивали.
Покуда мы свои выводим трели,
нас давит и коверкает судьба,
поэтому душа – нежней свирели,
а пьешь – как водосточная труба.
Зачем-то в каждое прощание,
где рвется тесной связи нить,
мы лживо вносим обещание
живую память сохранить.
Я искренне люблю цивилизацию
и все ее прощаю непотребства
за свет, автомобиль, канализацию
и противозачаточные средства.
Я даже мельком, невзначай
обет мой давний не нарушу,
не выплесну мою печаль
в чужую душу.
Мы столько по жизни мотались,
что вспомнишь – и каплет слеза;
из органов секса остались
у нас уже только глаза.
Не знаю блаженней
той тягостной муки,
когда вдоль души по оврагу
теснятся какие-то темные звуки
и просятся лечь на бумагу.
Когда наплывающий мрак
нам путь предвещает превратный,
опасен не круглый дурак,
а умник опасен квадратный.
Есть люди – пламенно и бурно
добро спешат они творить,
их бескорыстие и прыть.
Высок успех и звучно имя,
мои черты теперь суровы,
лицо значительно, как вымя
у отелившейся коровы.
Нам не светит благодать
с ленью, отдыхом и песнями:
детям надо помогать
до ухода их на пенсии.
Не сдули ветры и года
ни прыть мою, ни стать,
и кое-где я хоть куда,
но где – устал искать.
Всюду ткут в уюте спален
новых жизней гобелен,
только мрачен и печален
чуждый чарам чахлый член.
Заметь, Господь, что я не охал
и не швырял проклятий камни,
когда Ты так меня мудохал,
что стыдно было за Тебя мне.
Вольно ли, невольно ли,
но не столько нация,
как полуподпольная
мы организация.
В одной ученой мысли ловкой
открылась мне блаженства бездна:
спиртное малой дозировкой —
в любых количествах полезно.
Из века в век растет размах
болезней разума и духа,
и даже в Божьих закромах
какой-то гарью пахнет глухо.
Уже порой невмоготу
мне мерзость бытия,
как будто Божью наготу
преступно вижу я.
О помощи свыше
не стоит молиться
в едва только начатом деле:
лишь там соучаствует Божья десница,
где ты уже сам на пределе.
Здесь я напьюсь; тут мой ночлег;
и так мне сладок дух свободы,
как будто, стряхивая снег,
вошли мои былые годы.
На старости я сызнова живу,
блаженствуя во взлетах и падениях,
но жалко, что уже не наяву,
а в бурных и бесплотных сновидениях.
Сегодня многие хотят
беседовать со мной,
они хвалой меня коптят,
как окорок свиной.
А все же я себе союзник
и вечно буду таковым,
поскольку сам себе соузник
по всем распискам долговым.
На старости я, не таясь,
живу, как хочу и умею,
и даже любовную связь
я по переписке имею.
Чувствуя страсть, устремляйся вперед
с полной и жаркой душевной отдачей;
верно заметил российский народ:
даже вода не течет под лежачий.
Жалеть, а не судить я дал зарок,
жестока жизнь, как римский Колизей;
и Сталина мне жаль: за краткий срок
жену он потерял и всех друзей.
Покрыто минувшее пылью и мглой,
и, грустно чадя сигаретой,
тоскует какашка, что в жизни былой
была ресторанной котлетой.
Забавно мне, что жизни кладь
нам неизменно
и тяжкий крест, и благодать
одновременно.
Опыт наш – отнюдь не крупность
истин, мыслей и итогов,
а всего лишь совокупность
ран, ушибов и ожогов.
Ругая жизнь за скоротечность,
со мной живут в лохмотьях пестрых
две девки – праздность и беспечность,
моей души родные сестры.
Окажется рощей цветущей
ущелье меж адом и раем,
но только в той жизни грядущей
мы близких уже не узнаем.
С высот палящего соблазна
спадая в сон и пустоту,
по эту сторону оргазма
душа иная, чем по ту.
Все муки творчества – обман,
а пыл – навеян и вторичен,
стихи диктует некто нам,
поскольку сам – косноязычен.
В России часто пью сейчас
я с тем, кто крут и лих,
но дай Господь в мой смертный час
не видеть лица их.
Еще мне внятен жизни шум,
и штоф любезен вислобокий;
пока поверхностен мой ум,
еще старик я не глубокий.
Хмельные от праведной страсти,
крутые в решеньях кромешных,
святые, дорвавшись до власти,
намного опаснее грешных.
Слава Богу, что я уже старый,
и погасло былое пылание,
и во мне переборы гитары
вызывают лишь выпить желание.
Вел себя придурком я везде,
но за мной фортуна поспевала,
вилами писал я на воде,
и вода немедля застывала.
На Страшный суд разборки ради
эпоху выкликнув мою,
Бог молча с нами рядом сядет
на подсудимую скамью.
Мне жалко, что Бог допускает
нелепый в расчетах просчет,
и жизнь из меня утекает
быстрее, чем время течет.
Что с изречения возьмешь,
если в него всмотреться строже?
Мысль изреченная есть ложь..
Но значит, эта мысль – тоже.
Увы, но время скоротечно,
и кто распутство хаял грозно,
потом одумался, конечно,
однако было слишком поздно.
Весь век себе твержу я:
цыц и нишкни,
сиди повсюду с края и молчи;
духовность, обнаженная излишне,
смешна, как недержание мочи.
Наверно, так понур я оттого,
что многого достиг в конце концов,
не зная, что у счастья моего
усталое и тусклое лицо.
Вон те – ознобно вожделеют,
а тех – терзает мира сложность;
меня ласкают и лелеют
мои никчемность и ничтожность.
Для игры во все художества
мой народ на свет родил
много гениев и множество
несусветных талмудил.
Таким родился я, по счастью,
и внукам гены передам —
я однолюб: с единой страстью
любил я всех попутных дам.
Я старый, больной и неловкий,
но знают гурманки слияния,
что в нашей усталой сноровке
еще до хера обаяния.
Я не выйду в гордость нации
и в кумиры на стене,
но напишут диссертации
сто болванов обо мне.
О чем-то срочная забота
нас вечно точит и печет,
нас вечно точит и печет,
а все, что есть, – уже не в счет.
Любезен буду долго я народу,
поскольку так нечаянно случилось,
что я воспел российскую природу,
которая в еврея насочилась.
Я хоть и вырос на вершок,
но не дорос до Льва Толстого,
поскольку денежный мешок
милее мне мешка пустого.
Мы сразу правду обнаружим,
едва лишь зорко поглядим:
в семье мужик сегодня нужен,
однако не необходим.
Висит над нами всеми безотлучно
небесная чувствительная сфера,
и как только внизу благополучно,
Бог тут же вызывает Люцифера.
Обида, презрение, жалость,
захваченность гиблой игрой…
Для всех нас Россия осталась
сияющей черной дырой.
Не знаю, чья в тоске моей вина;
в окне застыла плоская луна;
и кажется, что правит мирозданием
лицо, не замутненное сознанием.
Бог задумал так, что без нажима
движется поток идей и мнений:
скука – и причина, и пружина
всех на белом свете изменений.
Любовных поз на самом деле
гораздо меньше, чем иных,
но благодарно в нашем теле
спит память именно о них.
Мне вдыхать легко и весело
гнусных мыслей мерзкий чад,
мне шедевры мракобесия
тихо ангелы сочат.
Увы, великодушная гуманность,
которая над нами зыбко реет,
похожа на небесную туманность,
которая слезится, но не греет.
Попал мой дух по мере роста
под иудейское влияние,
и я в субботу пью не просто,
а совершаю возлияние.
Унылый день тянулся длинно,
пока не вылезла луна;
зачем душе страдать безвинно,
когда ей хочется вина?
Хотя политики навряд
имеют навык театральный,
но все так сочно говорят,
как будто секс творят оральный.
Мне в жизни крупно пофартило
найти свою нору и кочку,
и я не трусь в толпе актива,
а выживаю в одиночку.
У Бога сладкой жизни не просил
ни разу я, и первой из забот
была всегда попытка в меру сил
добавить перец-соль в любой компот.
Владеющие очень непростой
сноровкой в понимании округи,
евреи даже вечной мерзлотой
умеют торговать на жарком юге.
Увы, стихи мои и проза,
плоды раздумий и волнений —
лишь некий вид и сорт навоза
для духа новых поколений.
Я всегда на сочувствия праздные
отвечаю: мы судеб игралище,
не влагайте персты в мои язвы,
ибо язвы мои – не влагалище.
Плетясь по трясине семейного долга
и в каше варясь бытовой,
жена у еврея болеет так долго,
что стать успевает вдовой.
Кошмарным сном я был разбужен,
у бытия тряслась основа:
жена готовила нам ужин,
а в доме не было спиртного.
Когда мне о престижной шепчут встрече
с лицом, известным всюду и везде,
то я досадно занят в этот вечер,
хотя еще не знаю чем и где.
Порою я впадаю в бедность,
что вредно духу моему;
Творец оплачивает вредность,
но как – известно лишь Ему.
Наше стадо поневоле
(ибо яростно и молодо)
так вытаптывает поле,
что на нем умрет от голода.
Пришла прекрасная пора
явиться мудрости примером,
и стало мыслей до хера,
поскольку бросил мыслить хером.
Таланту чтобы дать распространенность,
Творец наш поступил, как искуситель,
поэтому, чем выше одаренность,
тем более еблив ее носитель.
Я часто многих злю вокруг,
живя меж них не в общем стиле;
наверно, мне публичный пук
намного легче бы простили.
Глазея пристально и праздно,
я очень странствовать люблю,
но вижу мир ясней гораздо,
когда я в комнате дремлю.
По чувству, что долгом повязан,
я понял, что я уже стар,
и смерти я платой обязан
за жизни непрошеный дар.
Пора уже налить под разговор,
селедку покромсавши на куски,
а после грянет песню хриплый хор,
и грусть моя удавится с тоски.
Пишу я вздор и ахинею,
херню и чушь ума отпетого,
но что поделаешь – имею
я удовольствие от этого.
Меж земной двуногой живности
всюду, где ни посмотри,
нас еврейский ген активности
в жопу колет изнутри.
Дикая игра воображения
попусту кипит порой во мне —
бурная, как семяизвержение
дряхлого отшельника во сне.
Жить беззаботно и оплошно —
как раз и значит жить роскошно.
Я к потрясению основ
причастен в качестве придурка:
от безоглядно вольных слов
с основ слетает штукатурка.
Мне неинтересно, что случится
в будущем туманном и молчащем;
будущее светит и лучится
тем, кому херово в настоящем.
Когда текла игра без правил
и липкий страх по ветру стлался,
то уважать тогда заставил
я сам себя – и жив остался.
Я ценю по самой высшей категории
философию народного нутра,
но не стал бы относить к ветрам истории
испускаемые обществом ветра.
Трагедия пряма и неуклончива,
однако, до поры таясь во мраке,
она всегда невнятно и настойчиво
являет нам какие-нибудь знаки.
Я жизнь мою листаю с умилением
и счастлив, как клинический дебил:
весь век я то с азартом, то с томлением
кого-нибудь и что-нибудь любил.
Блаженны нищие ленивцы:
они живут в самих себе,
пока несчастные счастливцы
елозят задом по судьбе.
Вдоль организма дряхлость чуя,
с разгулом я все так же дружен;
жить осмотрительно хочу я,
но я теперь и вижу хуже.
Я к эпохе привернут, как маятник,
в нас биение пульса единое;
глупо, если поставят мне памятник:
не люблю я дерьмо голубиное.
Ты с ранних лет в карьерном раже
спешил бежать из круга нашего;
теперь ты сморщен, вял и важен —
как жопа дряхлого фельдмаршала.
По многим ездил я местам,
и понял я не без печали:
евреев любят только там,
где их ни разу не встречали.
В пустыне усталого духа,
как в дремлющем жерле вулкана,
все тихо, и немо, и глухо —
до первых глотков из стакана.
Уже виски спалила проседь,
уже опасно пить без просыпа,
но стоит резко это бросить,
и сразу явится курносая.
Любил я днем под шум трамвая
залечь в каком-нибудь углу,
дичок еврейский прививая
к великорусскому стволу.
Глаза мои видели,
слышали уши,
я чувствовал даже
детали подробные:
больные, гнилые,
увечные души —
гуляли, калеча
себе не подобные.
Жизни надвигающийся вечер
я приму без горечи и слез;
даже со своим народом встречу
я почти спокойно перенес.
Российские невзгоды и мытарства
и прочие подробности неволи
с годами превращаются в лекарство,
врачующее нам любые боли.
Был организм его злосчастно
погублен собственной особой:
глотал бедняга слишком часто
слюну, отравленную злобой.
Я под солнцем жизни жарюсь,
я в чаду любви томлюсь,
а когда совсем состарюсь —
выну хер и заколюсь.
Житейскую расхлебывая муть,
так жалобно мы стонем и пыхтим,
что Бог нас посылает отдохнуть
быстрее, чем мы этого хотим.
Затаись и не дыши,
если в нервах зуд:
это мысли из души
к разуму ползут.
Когда я крепко наберусь
и пьяным занят разговором,
в моей душе святая Русь
горланит песни под забором.
Кипит и булькает во мне
идей и мыслей тьма,
и часть из них еще в уме,
а часть – сошла с ума.
Столько стало хитрых технологий —
множество чудес доступно им,
только самый жалкий и убогий
хер живой пока незаменим.
Если на душе моей тревога,
я ее умею понимать:
это мировая синагога
тайно призывает не дремать.
Я знаю, зрителя смеша,
что кратковременна потеха,
и ощутит его душа
в осадке горечь после смеха.
По жизни я не зря гулял,
и зло воспел я, и добро,
Творец не зря употреблял
меня как писчее перо.
Мы вдосталь в жизни испытали
и потрясений, и пинков,
но я не про закалку стали,
а про сохранность чугунков.
Еще судьба не раз ударит,
однако, тих и одинок,
еще блаженствует и варит
мой беззаветный чугунок.
Давным-давно хочу сказать я
ханжам и мнительным эстетам,
что баба, падая в объятья,
душой возносится при этом.
Прекрасна в еврее
лихая повадка
с эпохой кишеть наравне,
но страсть у еврея —
устройство порядка
в чужой для еврея стране.
Прорехи жизни сам я штопал
и не жалел ни сил, ни рук;
судьба меня скрутила в штопор,
и я с тех пор бутылке друг.
Я слишком, ласточка, устал
от нежной устной канители,
я для ухаживанья стар —
поговорим уже в постели.
Хоть запоздало, но не поздно
России дали оживеть,
и все, что насмерть не замерзло,
пошло цвести и плесневеть.
Одно я в жизни знаю точно:
что плоть растянется пластом,
и сразу вслед начнется то, что
Творец назначил на потом.
Вечерняя тревога – как недуг:
неясное предчувствие беды,
какой-то полустрах-полуиспуг,
минувшего ожившие следы.
Создателя крутая гениальность
заметнее всего из наблюдения,
что жизни объективная реальность
дается лишь путем грехопадения.
Много высокой страсти
варится в русском пиве,
а на вершине власти —
ебля слепых в крапиве.
Создан был из почти ничего
этот мир, где светло и печально,
и в попытках улучшить его
обреченность видна изначально.
Я по жизни бреду наобум,
потеряв любопытство к дороге;
об осколки возвышенных дум
больно ранятся чуткие ноги.
В периоды удач и постижений,
которые заметны и слышны,
все случаи потерь и унижений
становятся забавны и смешны.
С людьми я вижусь редко и формально,
судьба несет меня по тихим водам;
какое это счастье – минимально
общаться со своим родным народом!
России теперь не до смеха,
в ней жуткий прогноз подтверждается:
чем больше евреев уехало,
тем больше евреев рождается.
Любовь завяла в час урочный,
и ныне я смиренно рад,
что мне остался беспорочный
гастрономический разврат.
Нам потому так хорошо,
что, полный к жизни интереса,
грядущий хам давно пришел
и дарит нам дары прогресса.
Всего лишь семь есть нот у гаммы,
зато звучат не одинаково;
вот точно так у юной дамы
есть много разного и всякого.
Я шамкаю, гундосю, шепелявлю,
я шаркаю, стенаю и кряхчу,
однако бытие упрямо славлю
и жить еще отчаянно хочу.
Политики раскат любой грозы
умеют расписать легко и тонко,
учитывая все, кроме слезы
невинного случайного ребенка.
Я часто угадать могу заранее,
куда плывет беседа по течению;
душевное взаимопонимание —
прелюдия к телесному влечению.
Разуму то холодно, то жарко
всюду перед выбором естественным,
где душеспасительно и ярко
дьявольское выглядит божественным.
Нам разный в жизни жребий роздан,
отсюда – разная игра:
я из вульгарной глины создан,
а ты – из тонкого ребра.
Сегодня думал я всю ночь,
издав к утру догадки стон:
Бог любит бедных, но помочь
умножить ноль не может Он.
Поскольку много дураков
хотят читать мой бред,
ни дня без глупости – таков
мой жизненный обет.
Жаль Бога мне: Святому Духу
тоскливо жить без никого;
завел бы Он себе старуху,
но нету ребер у Него.
Когда кому-то что-то лгу,
таким азартом я палим,
что сам угнаться не могу
за изолжением моим.
Творец живет не в отдалении,
а близко видя наши лица;
Он гибнет в каждом поколении
и в каждом заново родится.
На нас эпоха ставит опыты,
меняя наше состояние,
и наших душ пустые хлопоты —
ее пустое достояние.
Полностью раскрыты для подлога
в поисках душевного оплота,
мы себе легко находим бога
в идолах высокого полета.
При всей игре разнообразия
фигур ее калейдоскопа,
Россия все же не Евразия,
она скорее Азиопа.
Только полный дурак забывает,
испуская похмельные вздохи,
что вино из души вымывает
ядовитые шлаки эпохи.
От мерзости дня непогожего
настолько в душе беспросветно,
что хочется плюнуть в прохожего,
но страшно, что плюнет ответно.
Я много повидал за жизнь мою,
к тому же любопытен я, как дети;
чем больше я о людях узнаю,
тем более мне страшно жить на свете.
Все в этой жизни так заверчено,
и так у Бога на учете,
что кто глядел на мир доверчиво —
удачно жил в конечном счете.
На все глядит он опечаленно
и склонен к мерзким обобщениям;
бедняга был зачат нечаянно
и со взаимным отвращением.
Если хлынут, пришпоря коней,
вновь монголы в чужое пространство,
то, конечно, крещеный еврей
легче всех перейдет в мусульманство.
Я достиг уже сумерек вечера
и доволен его скоротечностью,
ибо старость моя обеспечена
только шалой и утлой беспечностью.
Себя из разных книг салатом
сегодня тешил я не зря,
и над лысеющим закатом
взошла кудрявая заря.
Льются ливни во тьме кромешной,
а в журчании – звук рыдания:
это с горечью безутешной
плачет Бог над судьбой создания.
К чему усилий окаянство?
На что года мои потрачены?
У Божьих смыслов есть пространство,
его расширить мы назначены.
К нам тянутся бабы сейчас
уже не на шум и веселье,
а слыша, как булькает в нас
любви приворотное зелье.
За то, что теплюсь легким смехом
и духом чист, как пилигрим,
у дам я пользуюсь успехом,
любя воспользоваться им.
Та прорва, бездонность, пучина,
что ждет нас распахнутой пастью,
и есть основная причина
прожития жизни со страстью.
В любом пиру под шум и гам
ушедших помяни;
они хотя незримы нам,
но видят нас они.
Есть у меня один изъян,
и нет ему прощения:
в часы, когда не сильно пьян,
я трезв до отвращения.
Мы с рожденья до могилы
ощущаем жизни сладость,
а источник нашей силы —
это к бабам наша слабость.
Твой разум изощрен, любезный друг,
и к тонкой философии ты склонен,
но дух твоих мыслительных потуг
тяжел и очень мало благовонен.
Листая календарь летящих будней,
окрашивая быт и бытие,
с годами все шумней и многолюдней
глухое одиночество мое.
Женился на красавице
смиренный Божий раб,
и сразу стало нравиться
гораздо больше баб.
Нелепо – жить в незрячей вере
к понявшим все наверняка;
Бог поощряет в равной мере
и мудреца, и мудака.
Друзья мои,
кто первый среди нас?
Я в лица ваши вглядываюсь грустно:
уже недалеко урочный час,
когда на чьем-то месте
станет пусто.
Когда растет раздора завязь,
то, не храбрейший из мужчин,
я ухожу в себя, спасаясь
от выяснения причин.
Взгляд ее,
лениво-благосклонный,
светится умом,
хоть явно дура,
возраст очень юный,
непреклонный,
и худая тучная фигура.
Людей, обычно самых лучших,
людей, огнем Творца прогретых,
я находил меж лиц заблудших,
погрязших, падших и отпетых.
Боюсь бывать я на природе,
ее вовек бы я не знал,
там мысли в голову приходят,
которых вовсе я не звал.
Я б не думал о цели и смысле,
только часто мое самочувствие
слишком явно зависит от мысли,
что мое не напрасно присутствие.
Явил Господь жестокий произвол
и сотни поколений огорчил,
когда на свет еврея произвел
и жить со всеми вместе поручил.
Я к веку относился неспроста
с живым, но отчужденным интересом:
состарившись, душа моя чиста,
как озеро, забытое прогрессом.
Ничуть не больно и не стыдно
за годы лени и гульбы:
в конце судьбы прозрачно видно
существование судьбы.
Нас боль ушибов обязала
являть смекалку и талант;
где бабка надвое сказала,
там есть и третий вариант.
Потоки слов терзают ухо,
как эскадрилья злобных мух;
беда, что недоросли духа
так обожают мыслить вслух.
Со всеми гибнуть заодно —
слегка вторичная отвага;
но и не каждому дано
блаженство личностного шага.
Везде, где можно стать бойцом,
везде, где бесятся народы,
еврей с обрезанным концом
идет в крестовые походы.
Не по воле несчастного случая,
а по времени – чаша выпита —
нас постигла беда неминучая:
лебедой поросло наше либидо.
Весна – это любовный аромат
и страсти необузданный разлив;
мужчина в большинстве своем женат,
поэтому поспешлив и пуглив.
Нечто круто с возрастом увяло,
словно исчерпался некий ген:
очень любопытства стало мало
и душа не просит перемен.
Жизнь моя как ни била ключом,
как шампанским ни пенилась в пятницу,
а тоска непонятно о чем
мне шершавую пела невнятицу.
Споры о зерне в литературе —
горы словоблудной чепухи,
ибо из семян ума и дури
равные восходят лопухи.
Давно по миру льются стоны,
что круче, жарче и бодрей
еврей штурмует бастионы,
когда в них есть другой еврей.
Судьба не зря за годом год
меня толчет в житейской ступке:
у человека от невзгод
и мысли выше, и поступки.
Переживет наш мир беспечный
любой кошмар как чепуху,
пока огонь пылает вечный
у человечества в паху.
Подонки, мразь и забулдыги,
мерзавцы, суки и скоты
читали в детстве те же книги,
что прочитали я и ты.
До точки знает тот,
идущий нам на смену,
откуда что растет
и что в какую цену.
С тоской копаясь в тексте сраном,
его судить самодержавен,
я многим жалким графоманам
бывал сиятельный Державин.
Наш разум тесно связан с телом,
и в том немало есть печали:
про то, что раньше ночью делал,
теперь я думаю ночами.
В устоях жизни твердокамен,
семью и дом любя взахлеб,
мужик, хотя и моногамен,
однако жуткий полиеб.
Неволю ощущая, словно плен,
я полностью растратил пыл удалый,
и общества свободного я член
теперь уже потрепанный и вялый.
Недолго нас кошмар терзает,
что оборвется бытие:
с приходом смерти исчезает
боль ожидания ее.
Пришли ко мне, покой нарушив,
раздумий тягостные муки:
а вдруг по смерти наши души
на небе мрут от смертной скуки?
Мы в очень различной манере
семейную носим узду:
на нас можно ездить в той мере,
в которой мы терпим езду.
Вся планета сейчас нам видна:
мы в гармонии неги и лени
обсуждаем за рюмкой вина
соль и суть мимолетных явлений.
В зоопарке под вопли детей
укрепилось мое убеждение,
что мартышки глядят на людей,
обсуждая свое вырождение.
А то, что в среду я отверг,
неся гневливую невнятицу,
то с радостью приму в четверг,
чтобы жалеть об этом в пятницу.
На пороге вечной ночи,
коротая вечер темный,
что-то все еще бормочет
бедный разум неуемный.
Разумов парящих и рабочих
нету ни святее, ни безбожней,
наши дураки – глупее прочих,
наши идиоты – безнадежней.
Что я люблю? Курить, лежать,
в туманных нежиться томлениях
и вяло мыслями бежать
во всех возможных направлениях.
Блаженство алкогольного затмения
неведомо жрецам ума и знания,
мы пьем от колебаний и сомнения,
от горестной тоски непонимания.
Дается близость только с теми
из городов и площадей,
где бродят призраки и тени
хранимых памятью людей.
Бывают лампы в сотни ватт,
но свет их резок и увечен,
а кто слегка мудаковат,
порой на редкость человечен.
Не только от нервов и стужи
болезни и хворости множатся:
здоровье становится хуже,
когда о здоровье тревожатся.
Был некто когда-то и где-то,
кто был уже мною тогда;
слова то хулы, то привета
я слышу в себе иногда.
Не слишком я азартный был игрок,
имея даже козыри в руках,
ни разу я зато не пренебрег
возможностью остаться в дураках.
Сегодня исчез во мраке
еще один, с кем не скучно;
в отличие от собаки,
я выл по нему беззвучно.
Конечно, всем вокруг наверняка
досадно, что еврей, пока живой,
дорогу из любого тупика
находит хитрожопой головой.
Ворует власть, ворует челядь,
вор любит вора укорять;
в Россию можно смело верить,
но ей опасно доверять.
Чтобы душа была чиста,
жить, не греша, совсем не глупо,
но жизнь становится пуста,
как детектив, где нету трупа.
Хотя неволя миновала,
однако мы – ее творение;
стихия зла нам даровала
высокомерное смирение.
Тонко и точно продумана этика
всякого крупного кровопролития:
чистые руки – у теоретика,
чистая совесть – у исполнителя.
Не помню мест, не помню лиц,
в тетради века промелькнувшего
размылись тысячи страниц
неповторимого минувшего.
В силу душевной структуры,
дышащей тихо, но внятно,
лучшие в жизни халтуры
делались мною бесплатно.
Взывая к моему уму и духу,
все встречные, галдя и гомоня,
раскидывают мне свою чернуху,
спасти меня надеясь от меня.
Судить подробней не берусь,
но стало мне теперь видней:
евреи так поили Русь,
что сами спились вместе с ней.
Пусты потуги сторожей
быть зорче, строже и внимательней:
плоды запретные – свежей,
сочней, полезней и питательней.
Я рад, что вновь сижу с тобой,
сейчас бутылку мы откроем,
мы объявили пьянству бой,
но надо выпить перед боем.
Наступило время страха,
сердце болью заморочено;
а вчера лишь бодро трахал
все, что слабо приколочено.
Везде на красочных обложках
и между них в кипящем шелесте
стоят-идут на стройных ножках
большие клумбы пышной прелести.
Есть в ощущениях обман,
и есть обида в том обмане:
совсем не деньги жгут карман,
а их отсутствие в кармане.
Вновь меня знакомые сейчас
будут наставлять, кормя котлетами;
счастье, что Творец не слышит нас —
мы б Его затрахали советами.
В неправедных суждениях моих
всегда есть оправдание моральное:
так резво я выбалтываю их,
что каждому найду диаметральное.
Известно
лишь немым небесным судьям,
где финиш
нашим песням соловьиным,
и слепо
ходит рок по нашим судьбам,
как пес мой —
по тропинкам муравьиным.
Эпоха лжи, кошмаров и увечий
издохла,
захлебнувшись в наших стонах,
божественные звуки русской речи
слышны теперь
во всех земных притонах.
В доставшихся мне
жизненных сражениях
я бился, балагуря и шутя,
а в мелочных
житейских унижениях —
беспомощен, как малое дитя.
До славной мысли неслучайной
добрел я вдруг дорогой плавной:
у мужика без жизни тайной
нет полноценной жизни явной.
На высокие наши стремления,
на душевные наши нюансы,
на туманные духа томления —
очень грубо влияют финансы.
Стали бабы страшной силой,
полон дела женский треп,
а мужик – пустой и хилый,
дармоед и дармоеб.
Я был изумлен, обнаружив,
насколько проста красота:
по влаге – что туча, что лужа,
но разнится их высота.
Наш век в уме слегка попорчен
и рубит воздух топором,
а бой со злом давно закончен:
зло победило, став добром.
Я, друзья, лишь до срока простак
и балдею от песни хмельной:
после смерти зазнаюсь я так,
что уже вам не выпить со мной.
Я живу, незатейлив и кроток,
никого и ни в чем не виня,
а на свете все больше красоток,
и все меньше на свете меня.
Еще родить нехитрую идею
могу после стакана или кружки,
но мысли в голове уже редеют,
как волос на макушке у старушки.
Давно живя с людьми в соседстве,
я ни за что их не сужу:
причины многих крупных бедствий
в себе самом я нахожу.
Во что я верю, горький пьяница?
А верю я, что время наше
однажды тихо устаканится
и станет каплей в Божьей чаше.
Несчетны русские погосты
с костями канувших людей —
века чумы, холеры, оспы
и несогласия идей.
Повсюду, где гремит гроза борьбы
и ливнями текут слова раздоров,
евреи вырастают как грибы
с обилием ярчайших мухоморов.
Компотом духа и ума
я русской кухне соприроден:
Россия – лучшая тюрьма
для тех, кто внутренне свободен.
О нем не скажешь ничего —
ни лести, ни хулы;
ума палата у него,
но засраны углы.
В неполном зале – горький смех
во мне журчит без осуждения:
мне, словно шлюхе, жалко всех,
кто не получит наслаждения.
Со мной, хотя удаль иссякла,
а розы по-прежнему свежи,
еще приключается всякое,
хотя уже реже и реже.
Давно я заметил на практике,
что мягкий – живителен стиль,
а люди с металлом в характере
быстрее уходят в утиль.
В земной ума и духа суете
у близких вызывали смех и слезы,
но делали погоду только те,
кто плюнул на советы и прогнозы.
Зная, что глухая ждет нас бездна,
и что путь мы не переиначим,
и про это плакать бесполезно, —
мы как раз поэтому и плачем.
Опершись о незримую стену,
как моряк на родном берегу,
на любую заветную тему
помолчать я с друзьями могу.
Похожие книги на "Закатные гарики. Вечерний звон (сборник)", Игорь Губерман
Игорь Губерман читать все книги автора по порядку
Игорь Губерман - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.