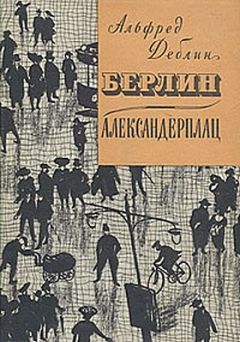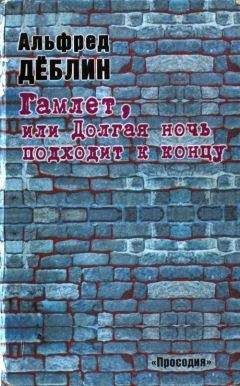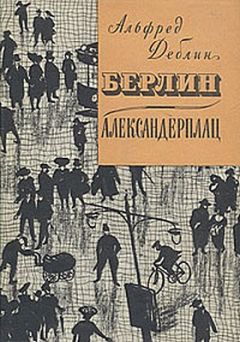"О Зонненбург, о Зонненбург, зеленые листочки! Где сидел я прошлым летом? Не в Берлине, не в Штеттине, не сидел я в Магдебурге. Ну, так где же я сидел? Нет, дружок, не угадаешь: в Зонненбурге, в Зонненбурге.
О Зонненбург, зеленые листочки! Вот образцовая тюрьма, гуманность в ней царит сама. Там нас не бьют, не обижают, не пугают, не оскорбляют. Там не житье, а благодать — есть, что выпить, что пожрать.
Там чудесные перины, сигареты, пиво, вина. Да, приятель, там жить можно, надзиратели надежны, преданы нам телом и душой. В мастерских мы там сидим и служивым говорим: сапоги берите вы, но достаньте нам жратвы! Гимнастерки и штаны, рухлядь старую с войны переделать мы должны. А мы не станем их перешивать, можете их сразу "налево" продавать! Только, братцы, не скупитесь и деньгами поделитесь. Ведь деньги пригодятся нам, бедным арестантам.
Завелись у нас фискалы, выдать нас хотят. Мы им кости поломаем, ребра им пересчитаем. Им ребята говорят: веселитесь вместе с нами, не то расплатитесь боками. Подумайте в последний раз! Мы вас мигом успокоим, мы вам темную устроим — шутить не принято у нас.
Коли вы шутить хотите, то к директору идите, — он немного "не того" и не видит ничего. Раз поднялся шум и гам — ревизор явился к нам. Кое с кем поговорил и начальству заявил: "Не дам спуску никому, буду я ревизовать Зонненбургскую тюрьму".
Только, ребята, остался он с носом. Что дальше было, сейчас расскажу. Сидели мы в тюремном буфете — два надзирателя и мы, и вот сидим мы так, выпиваем, и входит к нам, ну кто бы вы думали?
К нам пришел, бум, бум, бум, к нам пришел, бум, бум, бум, господин ревизор! Что вы скажете на это? Грянул тут наш дружный хор: пусть живет наш ревизор, пусть залезет на забор, пусть прилипнет к потолку, тяпнет рюмку коньяку, пусть присядет в уголку!
Что сказал нам ревизор? Стыд и срам, — кричит, позор! Это я, ваш ревизор, бум, бум, это я! Говорит наш ревизор: "Кто надзиратель здесь, кто вор, не возьму я в толк никак. Здесь тюрьма или кабак? Прекратите глупый смех, упеку вас в карцер всех! Это я ревизор, бум, бум, бум, это я, бум, бум!
О Зонненбург, о Зонненбург, зеленые листочки. Но не вышел его номер, он с досады чуть не помер и, от злости сам не свой, покатил к жене домой. Бум, бум, господин ревизор! Остался с носом в этот раз, только не сердись на нас".
* * *
А ну налетай — кому штаны и бушлат! Один из молодчиков достает сверток. В нем — коричневый арестантский бушлат. Продается с торгов, кто больше даст? Цены бросовые! Распродажа уцененных товаров. Отдаю бушлат по дешевке! Всего за рюмку коньяку. А ну налетай! Шум. Смех! "О светлый миг, блаженный миг. Поднимем вновь бокалы…"
Вторым номером пойдет пара парусиновых туфель, хорошо приспособленных к местным условиям жизни в каторжных тюрьмах, подошвы соломенные, рекомендуются для побегов! Третьим номером — одеяло.
— Послушай, ты бы хоть одеяло-то старшому сдал. Неслышно вошла хозяйка и, осторожно прикрыв за собою дверь, сказала:
— Тише, тише, там полно народу.
Один с тревогой поглядел на окно. Его сосед рассмеялся.
— Брось. Окно нам ни к чему! Если что — вот, гляди. Он нагнулся и поднял крышку люка под столом.
— В погреб, а оттуда на соседний двор, карабкаться придется, дорога ровная. Только не снимать шапки, а то сразу в глаза бросится!
— Хорошую ты, брат, песню спел, — пробурчал какой-то старик. — Но есть и другие не хуже! Эту вот знаешь?
Он достает из кармана мятый лист бумаги, исписанный кривыми каракулями.
— Называется "Смерть кандальника".
— А она не очень жалостливая?
— Что значит "жалостливая"? Правильная песня, твоей не уступит!
— Ну, валяй, старина, смотри только сам не заплачь, то еще клецкой подавишься.
* * *
"Смерть кандальника. Хоть и бедный, но веселый, шел он честною стезею, свято чтил он благородство, чуждо было ему злое. Но, увы, несчастья духи на его дороге встали, обвинен он был в злодействе. Сыщики его забрали.
(Загнали, затравили меня, чуть совсем не убили! Травят и травят — не дают жить, не знаешь, куда деваться, не убежишь от них. Как ни беги — все равно тебя догонят. Вот теперь загнали, затравили Франца, ладно, хватит с меня, довольно, не побегу дальше, нате — жрите!)
Как ни плакал он, ни клялся, суд не верил его слову, все улики были против, в кандалы он был закован. Судьи мудрые ошиблись (загнали, затравили они меня), их неправым приговором (затравили меня псы проклятые) заклеймен он был навеки несмываемым позором. "Люди, люди, — восклицал он, слезы горя подавляя, — отчего мне нету веры, никому не сделал зла я". (Травили, жить не давали. Никуда от них не скроешься. Как ни беги, все равно догонят! Нет больше сил! Я сделал все, что мог.)
А когда он из темницы вышел чуждым пилигримом, то весь мир переменился, да и сам уж стал другим он. Он бродил по краю бездны, путь потерян безвозвратно, и его, больного сердцем, гнала бездна в ночь обратно. И бедняк, людьми презренный (как они меня травили, псы проклятые), потерял тогда терпенье, он пошел и стал убийцей, совершил он преступленье. В этот раз он был виновен.
(Виновен, виновен, виновен. Вот и мне надо было преступленье совершить, виновным стать! Мало я сделал — в тысячу раз больше надо было провиниться.) Строже рецидив карают, и опять в тюрьму беднягу суд жестокий отправляет. (Аллилуйя, Франц, аллилуйя, понял наконец! В тысячу раз больше провиниться надо было, в тысячу раз!) Вот еще раз он на воле, грабит, режет, жжет и душит, чтобы мстить проклятым людям за поруганную душу. И в тюрьму вернулся снова, отягченный преступленьем, и на сей раз присужден был он без срока к заключенью. (Вот и его они так травили, псы проклятые, тот, про которого поют, правильно он сделал, так им и надо.)
Но теперь уж он не плачет, над собой дает глумиться, и в ярме он научился лицемерить и молиться. Исполняет он работу, день за днем все то же дело, дух его угас давно уж, раньше, чем угасло тело. (Как они меня травили, псы проклятые, жить не давали. Я сделал что мог, и теперь меня загнали в тупик, не моя в этом вина, что же мне было делать? Но я все еще прежний Франц Биберкопф, берегитесь, попомните вы меня.)
Он недавно жизнь окончил, и в весеннее веселье он лежал уже в могиле, арестанта лучшей келье.
И ему привет прощальный колокол тюремный слал, — он потерян был для мира, смерть свою в тюрьме принял.
(Берегитесь, господа хорошие, вы еще не знаете Франца Биберкопфа, этот себя дешево не продаст! Если уж ему суждено лечь в могилу, он на каждом пальце по одной душе с собой унесет и пошлет их к отцу небесному с докладом: сперва, дескать, мы, а за нами уж и Франц. То-то господь удивится, что раб божий Биберкопф пожаловал в карете с форейторами! А чего же тут удивляться?
Всю жизнь его, Франца, травили, мелкой сошкой ходил он по земле — так пусть хоть на небеса в карете въедет, покажет, каков он есть!)
За соседним столом все поют, болтают. Франц до сих пор сидел в каком-то отупении, но теперь вдруг почувствовал себя бодрым и свежим. Он надел парик, пристегнул искусственную руку; так руку, говоришь, мы на войне потеряли? Всюду война — и нет ей конца, так всю жизнь и воюешь; главное дело — твердо на ногах стоять.
Поднялся Франц по железной лестнице закусочной, и вот он уже на улице. Слякоть, сыро, дождь накрапывает. Уже стемнело. На Пренцлауерштрассе обычная толкотня и сутолока. На углу Александерштрассе собралась толпа. Много полиции. Франц повернулся и медленно направился в ту сторону.
НА АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ ПОМЕЩАЕТСЯ ПОЛИЦЕЙПРЕЗИДИУМ…
Двадцать минут десятого. В крытом дворе полицейпрезидиума под стеклянной крышей стоят несколько человек и разговаривают. Рассказывают друг другу анекдоты, поразмяться вышли. К ним подходит молодой комиссар, здоровается.
— Ведь уже десятый час, господин Пильц, вы не забыли напомнить, что машину должны подать ровно в девять?
— Сейчас звонят по телефону в Александровские казармы; машину мы еще вчера заказали.
Подходит еще один.
— Оттуда отвечают, что машина была послана без пяти девять, да перепутали адрес, говорят, сейчас же пошлют другую.
— Хорошее дело — "перепутали", а мы тут стой, дожидайся.
— Я спрашиваю, где же машина, а он творит, а кто это у телефона, я говорю — секретарь Пильц, тогда ион назвался: лейтенант такой-то. Тогда я ему и говорю: лейтенант, я звоню по поручению господина комиссара, мне приказано насчет машины справиться… Мы вчера подали заявку в транспортный отдел на машину для облавы в девять часов, заявка была дана в письменной форме; господин комиссар просил подтвердит получение. Послушали бы вы, как он стал рассыпаться в любезностях, лейтенант этот самый. Ну, конечно, говорит, конечно, все будет в порядке, машина уже послана, тут недоразумение вышло, и так далее и тому подобное.
Наконец подкатили грузовики. В первую машину сели агенты уголовного розыска, полицейские комиссары и несколько женщин-агентов. На этой же машине некоторое время спустя сюда привезут несколько десятков арестованных, а среди них и Франца Биберкопфа; ангелы уже покинули его, и взглянет он на людей иными глазами, чем глядел совсем недавно, выходя из закусочной, но ангелы возрадуются, запляшут, да, да, уважаемые читатели, верующие ли вы или не верующие, но так оно и будет!