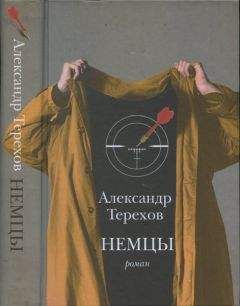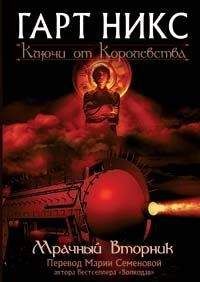— Эрна, — она отвечала ровно, он не улавливал в голосе ее частиц тепла, каплевидных вкраплений с повышенной относительно среднего уровня температурой, нет, — ты знаешь, что тебя завтра приглашают в суд?
— Да.
— Я не хочу, чтобы ты шла.
— Я тоже не хочу.
— Лучше заболей и не ходи.
Она спросила поживей:
— А так можно?
— Конечно!
Еще веселей:
— И в школу не ходить?
— В школу лучше сходить. Хочешь, поговорю об этом с мамой?
— Не надо. Она тоже не хочет, чтобы я шла.
— Вот видишь, — и чтобы не выпускать, удержать какую-то жизнь, отклик с той стороны: — Сейчас напишу тебе огромное письмо!
— Я сейчас не хожу в Интернет, — и закрылось.
— Ладно. — Тебе неинтересно, что напишет отец?!! лень нажать две клавиши?!! всё равно?!! — Буду ждать, когда…
Хотелось ему, чтобы Эрна пришла и судья Чередниченко всё решила в его пользу, без переносов для «до полного выяснения мнения ребенка». Ему не хотелось, чтобы Эрна приходила потому, что ей (ему!) будет тяжело… Напишу: «Что бы ты ни сказала на суде, мое отношение к тебе не изменится». Не написал. Нельзя проявлять волнения и слабости. Не потому. Потому, что было это неправдой. Хотелось ему уже не покорения мира, а гораздо большего — добиться любви двенадцатилетней девочки, чтобы у нее жгло глаза, если бы он собрался отсутствовать; Улрике не смолкала, закончив по телефону, шла к нему, жалуясь, причитая и плача; вцепившись в «завтра я должен выглядеть солидно», Эбергард сбежал, у подъезда не встретили; а что скажут, если с ними заговорить, скажут: последний день — он тоже считает; пошел веселей, придумывая шутку; нехотя из теплой машины на холод выбрался злоглазый человек в плечистой куртке блестящей, натянул шапочку на уши и брел по его следам, машина, какая-то машина (вылез из нее? кажется, другая) попятилась с парковки — может, человек шел просто так и машина — отдельно, но всё теперь имело к нему отношение; не верил, надо верить в хорошее, но страх жрал помимо его разумений, сам, к постоянной тянущей тяжести в животе на улице добавлялось предчувствие укола в место, где череп садится на шею, в какой-то подходящий для этого зазор, вот поэтому задирались плечи, прижимался затылком воротник; он делал вид: а, ничего, смотрел сочащимися глазами, как вдруг снесло ветром тучи с солнца, проявились цвета, какая-то весна, способная всё делать другим, пусть делает всё другим… поворот — нет, человек всётаки шел за ним, вот и машина, бывалая пятерка БМВ, обогнала и, включив аварийку, встала на углу: дальше куда? — в его жизни всегда сбывается хуже, чем худшее, он понял: всё это делается так и существует так, как существует и делается то, что ненадолго и скоро кончится; понял и сразу после сказанных внутри слов «скоро кончится» почуял первый раз за столько дней: легче — и упал, раздирая запястья подставленных ладоней о заледеневшую снежную корку, потому что догнавший и обгонявший его человек ударил ногой Эбергарда в бедро, без слов, как по спортивному, тяжело покачнувшемуся, обтянутому резиной снаряду, и прошел вперед не оглянувшись; никто не оборачивался, этого не видел, словно Эбергард поскользнулся и поэтому ворочается в снегу, обхватив бедро руками и скуля, пробуя: можно встать, а теперь: можно разогнуться? — и всё это правильно, переживаемо — Эбергард же не кричал: почему? Не бежал следом за человеком — вот он стоит на повороте возле машины, — так нужно; шаг, еще — шаг, болит, но терпимо — поковылял дальше… Он думал купить для суда костюм, влезал в примерочной в один за другим, переминаясь по полу, усеянному булавками, пластмассовыми подворотничками и кусками папиросной бумаги, за стенкой гнусавил какой-то:
— Нет, рубашку со смокингом носят с запонками… Нет, мне нужен смокинг на две пуговицы… Но чтобы носить с джинсами, а не так, как носят дядьки… Именно черного цвета, а не графитового какого-нибудь… И ткань класса ройял, чтобы ручная работа…
Ничего не подошло, нет; всё время не давая себе оглянуться, хромылял, изображая: смотрю на витрины, ищу костюм, туфли, делая вид: спокоен, кому-то звоню, делая вид: зашел выпить кофе, улыбаюсь своим непобедимым делам… Что-то нагнали дэпээсников, сказал таксист, Эбергард догадался: мэр — вышел и в ожидающей толпе под плакатом «Закладка третьей очереди торгово-развлекательного центра „Радость мира“» замерз так, что заболела спина; за стеклами построенной «второй очереди» угадывались фуршетные столы, голос, выписанный с похорон и демонстраций на Красной площади, вещал:
— Церемонию освящения проводит викарий патриарха Русской Православной Церкви!
Слившись до неразличимости с почвой, толпой, Эбергард наблюдал за монстром — тот прохаживался в короткой куртке на меху и кепке перед выстроившимися встречающими и шеренгой изображавших строителей, подъезжали министры и обнимались с такой горячностью, словно вышли из тюрьмы, оркестр в форме, напоминающей авиационную, грянул «Я по свету немало хаживал…» — Мэр, мэр! — монстр выскочил вперед с полупоклоном, выманивая поцелуй и подхватив подаренную ладошку, как брошенную монетку, — золотая! И Эбергард подобрался, выпрямился и почему-то накрыл каблуком конфетную обертку, замеченную на свежевыметенном асфальте, двинул больную ногу, стеснившаяся толпа сбила его и подтащила к мэру, сиянию, где теснились камеры, маскарадные ветераны, невеста в белом полушубке и пружиняще покачивались охранные затылки; высокий остроносый охранник с вздыбленной и колюче закрепленной лаком щетиной на голове насмешливо разглядывал Эбергарда, насмешливо и презрительно разглядывал прочих: куда? к-куда?! — оркестр по новой вступил «Я по свету немало хаживал…», и мэр, держа лопату за черенок, подальше от себя, как венок на могилу, прошел с ближними по мосткам и опустился по лестнице в котлованную бездну, пока микрофоны медоточили:
— Восемнадцать лет на этом месте был пустырь! Энергия нашего мэра, талант, новаторские подходы… Ура, товарищи!
Чужой (а ведь забылся Эбергард, всё рядом с мэром повылетало из головы, вот благодать где, вот что лечит) дотронулся — Пилюс, проходя:
— Слыхал? — и, глядя в сторону, в самое ухо: — Хассо уволили, — и, сладко улыбаясь, отошел, и все разошлись, побежали греться, отбывало телевидение, никто не следил, где там мэр, — и мэр, уже простившись, провожающих отпустив, уже помялся в задумчивости возле лимузина, вдруг прошел вперед — навстречу Эбергарду, так похоже на «к нему», что в Эбергарде заколотилась ночная рука, умоляющая: сейчас, иди к нему и — скажи! — но знал: никогда, нет; мэру что-то мешало при ходьбе, и он пробовал: да, всё-таки мешает, ему подставили плечо, он оперся и правую ногу поставил на носок, охранник, что всем улыбался, присел и найденной щепочкой начал прочищать подошву — мелкий щебень забился в бороздки ботинок, беспокойство и неудобство; мэр попробовал правую: топ-топ, теперь вроде ничего, поменял ногу; Эбергард с двух шагов смотрел на насупленного вислощекого старика с круглой головой, мог еще ему что-то крикнуть, окликнуть по имени-отчеству и громко сказать: спасите! И торопливо что-то про аукцион, горячее питание, Лиду, мне — пять минут!!! — но знал: мэр не увидит Эбергарда; смотрел и не мог поверить, что всё зависит вот от него, что это он всё так построил, уничтожил жизнь Эбергарда… неужели вот он, одряхлевшее, уставшее, но еще не насытившее себя тело с сивым пухом на шее? и понимал: нет. Нет. Всё как-то закрутилось и закручивается само дальше и всех кружит одинаково, и не разберешь, кто разгоняет, отталкиваясь ногами, а кто едет и уже не соскочишь. Побагровевший от усилий охранник разогнулся, отнес щепочку на газон, гневно взглянул на Эбергарда: че ты здесь? — и побежал занимать положенное место, мэр уехал. Эбергард сел подстричься (хоть что-то новое к суду), увидел в зеркале своего отца, согнутого, боязливого и медленного; а потом: «вот я»… как стричь, как вода, как погода, боялся, когда звонил неопределившийся, боялся, когда долго не звонил, если продать квартиру матери, если продать квартиру матери Улрике, их участок, машину, квартиру, где он прописан, где живет Эрна, если бы люди, способные дать взаймы (раз, два; три… может быть, четыре, пять)… если бы он устроился, если бы его видели с мэром, под ясное будущее ссудили бы многие, под пару бюджетных статей и «отношения», а завтра Леня Монгол, сейчас суд, главное суд — сделает и освободятся руки, всё делал правильно, чтобы устроиться, нужно время… когда-то давно уже, утром, его ударили… Из безопасного тепла, из-под прикосновений худой, быстро онемевшей стилистки (она отсканировала часы, туфли, отсутствие кольца, но звонок Улрике и короткий разговор обнулил его счет, и стилистке пришлось снять кассу и заниматься оформлением возврата), она уморилась с утра на каблуках и присела на перекатывающийся стул с вращающимся для перемены высоты сиденьем; он вышел в какой-то запнувшийся, по-утреннему пустой мир, ветер по-другому овевал стриженую голову праздничным холодком, и сам удивился: почему вдруг таким счастливым идет он по тротуару, и улыбается, и замечает всё, как после отсутствия: вот новое солнце, вот его время, вот человеческие лица, и в каждом свой свет, — что-то с землей и временем произошло, приблизилось всё и изменилось: то схватывала сердце грусть, то ощущал он томление надежды на что-то, радость окликала его, словно вот она, очень рядом, просто вовремя оглянись и опознай, успей в ее скоротечность; он почувствовал себя школьником: куда-то ходил он вот так же, словно по этой улице, по такой же свободе и простору, так ходил он на речку, подумал: река — и почуял запах воды, лопались какие-то преграды вокруг него, и прошлое не просто обнажалось — оказывалось частью света, стороной его жизни, можно прошлое увидеть, в прошлое зайти… Он шел быстрей и быстрей, почти не хромая, чтобы не отстать от этого удивительного, внезапного ощущения прочности и тепла, и вдруг — понял; остановился и — понял, почему всё так: серое, влажное протяженное пространство Кутузовского в обе стороны лежало пустыней, из тумана в туман, четная и нечетная стороны его невероятно соединились проходимым асфальтовым полем, вечная разделенность пространства течениями и смертоносными скоростями пропала, и тотчас опустилась тишина и проросли запахи весны, расправилась земля меж московскими холмами, и ты мог, казалось, пойти, куда хочешь, — иди, всё, что разделяет людей, зажило, Кутузовский — пуст: ждали Путина. И вот уже пронеслись злые, колючие мигалки и рабски стоящие на коленях невидимые автомобильные лавины заныли свое многоголосое «ненавижу!!!», подтверждая — едет, и Эбергард вернулся сюда, всё кончилось.