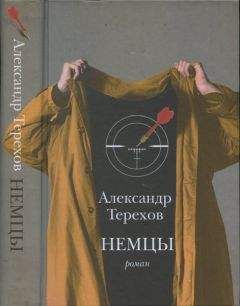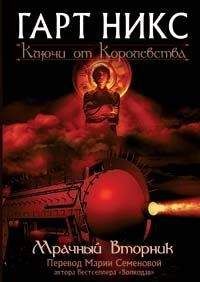— Ларьки. Уборка мусора. Возведение строений. Покраска. Озеленение. Железные, блин, дороги. Бензин. Забота об инвалидах. Таблетки в аптеках, ракеты…
— Вообще — всё! — взорвался вдруг Фриц, грохнув ладонью о стол, так что разлетелись вилки. — Ты же это хочешь сказать: всё. Так и скажи: всё!!!
— Да. Всё. Всё собирается и течет наверх, там собирается и дальше течет наверх, там собирается и — наверх. Как от ларька. Ларек — в потребительский рынок, потребрынок — главе управы, глава — заму префекта, зам — префекту, префект — часть в департамент, часть — мэру, мэр…
Ваня с грохотом, уронив салфетку и застегиваясь, пролез за спинами возмущенного потерей времени Фрица и не открывавшего лица Хассо вон, прошипев:
— Провокация! — и, отойдя, еще оглянулся: на каждого, кто и сколько, собираясь куда-то звонить.
— Ты зачем людей-то пугаешь? — по-доброму спросил Хериберт, налил себе водки и выпил.
— Мэр, — Эбергард чертил пальцем протоки, — министрам, в федеральный округ, в администрацию…
— Ну, не так же буквально! Не чемоданами же, — Фриц любил точность, если уж начал разговор!
— Хорошо, — Эбергард показал: «подожди», — возможностями, землей, акциями и чемоданами. Я о другом. О непрерывности потоков, — он сложил руками гору, чуть разомкнув ее, как вулкан. — Течет снизу — от судьи, мента, коммерса, учительницы, от попа… От последнего, на хрен, пенсионера! От каждого купленного памперса!
— Ну, так это испокон, — Фриц поковырял вилкой рыбу, не отсюда ли раздается этот раздражающий его звук, но отложил: ладно, разберусь, когда уйдет.
— Я не об этом! Если всё стекается непрерывно… в одно место. Вы представляете, сколько это? Вопрос один: куда девается — всё это? Кому башляет Путин?
Хассо убрал руки и равнодушно ответил:
— Но у него же дочери… Себе на старость. Своим друзьям. У друзей дети.
— Дочерям. Друзьям… Да они б — захлебнулись давно!!! Они бы утонули там, в своих потоках! Щупальцев бы не хватило подгребать! Карманов! Затопило бы и замедлилось течение! Заторы! Любой организм когда-то насыщается. Брюхо растяжимое, но имеет ограничения по размеру! Но ведь течет! И дальше течет! И течет! Значит… Тогда: куда? Кому наверх башляет Путин?
— И кому? — Хериберт наслаждался.
Эбергард поднялся:
— Ты знаешь. Мы все знаем. Он, как и мы, — за процент. Остальное отдает повыше. И там решают вопросы. Мы, — потрогал плечи Хассо и Фрица, до кого дотянулся, — все под кем-то, мы сами выбрали — под кого лечь. Поэтому так живем. Не просто «так получилось», — он уходил, приготовясь различить голос: кто всё-таки окликнет его, но промолчали; не пойти бы домой и пропасть, но Улрике не оставишь, сразу после родов — в санаторий (уже придумал: из роддома вывезти ночью); к каждому плану теперь прибавлялось «пока хватит денег», как раньше к любому невыполнимому прибавлялось «а если заплатить очень много», а там…
С участковым, заключавшим любое рассуждение «тоси-боси» и обнажавшим на запястье татуировку «За ВДВ!», они встретились у овощного ларька, Эбергард дал ему двести долларов, чтобы проводил до подъезда. Круглоголовый, южнорусского происхождения участковый с напористостью «торгового представителя в регионах», жадно осматривая свою часть земли, на всякий случай шел с отставанием, делая вид, что записывает номера заснеженного автомобильного металлолома.
— В дверь могут и подростки звонить. Из хулиганских побуждений. — Они прощались. — А то, что люди у подъезда… То, что вам звонки на мобильный, городской, тоси-боси… подъедьте в ОВД, заявление оставьте, но вообще из практики… — резанул потерявшегося, скользкого человека насмешливыми глазами осведомленного, как работает судьба на районном уровне. — Не знаю, что там у вас, но — если есть какие-то вопросы, — перекладывая папку из руку в руку, — по задолженностям, например. То лучше их в поставленные сроки оперативно порешать.
«Только не завтра», думал он про роддом, суд сначала, чем помазать ногу — упал на скользком; еще попросил у Улрике чашку чая, потом удивился: что это в чашке? — достал бинокль, в окнах напротив увидел девушку — голые плечи, сидит и красится, макая что-то во что-то, и напыляет на скулы, зачем на ночь? — накрасится и, получается, встанет, пойдет одеваться, — не сводил с нее глаз: как наклоняется, поднимает руку углом, подправляя ресницы, за дальний взялась глаз, долго, еще кисточкой — легкие, обмахивающиеся движения; этажом выше девушка в пижаме расчесывала и сушила длинные волосы, потом отлучилась в туалет, возвратилась и легла поверх одеяла на кровать, свет не тушила; к ее соседям пришли гости, двое: она в красной майке и белые носочки на голых ногах, улеглась на диван, подошел он и нагнулся, не видно; Эбергард вернулся назад: первая девушка продолжала краситься, вторая девушка лежала не шевелясь; у соседей, принимавших гостей, пока его не было, что-то обрушилось, появился патлатый хозяин с веником, подмел, все ушли на кухню курить; дальше, если повести вправо, — во тьме невидимая лампа высвечивает плечо красноватым отблеском, ни одного ребенка; в пижаме — лежит; где девушка красилась — потерял — или погасила, или ушла одеваться на другую сторону; вот еще не спят: сквозь тюль и меж развешанным на лоджии бельем появилась женщина с черными волосами, большая, что-то поделала у зеркала, мелькали, двигались руки и встряхивались волосы, — сделала шаг и — виднее: в черном облегающем халате, смотрит в зеркало и встряхивает пышными волосами, повернулась боком, провела руками под грудью — меряет халат? Снимет прямо сейчас? Тюлевая занавеска лишает деталей. Вдруг она нагнулась, запустила руку под халат и сняла трусы. И опять встала перед зеркалом. В комнату зашел мужчина. Женщина крупная, но мужчина повыше ее на голову, постояли друг против друга, Эбергард заметил: голова у мужчины свернулась на бок — целуются, что ли? Женщина обхватила мужчину сильной рукой, прижалась, и они погасили свет; в оставшихся окнах виднелись старческие ребра под кожей, посыпанной мукой; в одной комнате ночью всегда горел свет за грязной зеленой шторой, и в оставленную щель виднелся лишь кусок стены, лишенный обоев, — голая, неокрашенная штукатурка; он смотрел, смотрел, смотрел на эту штору, другие окна гасли вокруг, а здесь никогда не выключали… вдруг штора сдвинулась и он увидел девушку в пижаме, опять, но только — в другой квартире и на другом этаже лежала неподвижно на кровати, на краешек кровати к ней примостились целующиеся женщина в черном халате и ее огромный мужчина, в кресле отдельно сидел старик напротив телевизора, заложив руки за голову, и думал, что один, девушка, накрасившись, стояла в сорочке телесного цвета на двух нитках и перебирала в шкафу одежду за плечо, потом отошла на кухню, проверила кран, вернулась, туда же зашел щуплый хозяин квартиры с веником и протянул руку к выключателю… Эбергард опустил бинокль; остался шаг, семь часов до суда, всё приготовлено, но в постели он еще пошептал в темноте: Бог, и ты вложись, пожалуйста, умоляю я, добавь от себя, посоответствуй, один раз, не за что-то, только по доброте, сделай мне завтра, различи мой голос, — взмолился, звал с такой отчетливой, не могущей не подействовать силой, что вдруг оборвал себя от страха: а вдруг повернусь на другой бок, лицом к фонарному свету, и рядом окажется что-то от того, кому молюсь, Он сделается виден, и не смогу как раньше жить, и уже никак; и умолк, поискал устроившие бы его условия соглашения: помоги, но чтоб я не был обязан, помоги, но не показывайся, пощади, заранее знаю: не вынесу; я, уже облепленный морщинами, не смогу вместить еще и твоего существования, мне не надо особенного, надежд на потом, я согласен, как все, — оседать, оплетаясь корнями, и рассыпаться, мне, как и всем, — сияющего, какогото бесконечного, не нужно, самое большее — еще одну встречу с тем, кого выберу, после жизни, одно посещение; кровоточаще болит и слезы только от того, что всем, понимаешь, не хватает еще одного разговора — я бы ему сказал… Посмотрел и убедился… Объяснил, как на самом деле… Вот, оказывается, на кого похожа… Слушал я вас, слушал, а на самом деле было не так… Напрасно ты так поступила… Видишь, я был прав… Не плачь… Хоть иногда навещай… Какая ты стала… Хотелось бы сирень… Всё-таки надстроили второй этаж… Я рад, что у вас так всё сложилось… Вспоминай меня, хотя бы раз в году… Конечно, простил… И ты прости меня. Только еще одну встречу, вечности не надо, мы от того, что отмерено, устаем; почувствовав: не получается больше молиться, безнадежно; и вдруг понял, что Улрике тоже почему-то не спит, и сказал:
— Наверное, в старости я буду одинок. В каком-нибудь вонючем доме престарелых. Буду злиться на всех, что забыли. Что ничего не вышло. И буду ненавидеть молодых.
Улрике лежала рядом, на расстоянии протянутой руки, но — отдельно, тяжело и пугающе неприязненно, словно давно знала что-то еще про них (то, что, Эбергард надеялся, она никогда не узнает) и только посреди ночи могла доставать и понимать это знание и смотрела в ту же сторону.