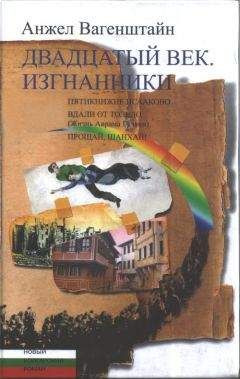Небо над Пловдивом светлеет, рассвет еще только зарождается — хмурый, по-осеннему серый.
Мы с Аракси стоим на противоположном тротуаре, я весь в саже, с многочисленными царапинами на лице, опаленном вчерашним пожаром. Руины фотоателье «Вечность» еще дымят, кругом суетятся пожарные и полицейские.
Мы молчим.
— Он тогда сказал, что придут туманы — тяжелые и густые, как дым от пожарищ. И угадал: два пожара за два дня!
— Зачем он это сделал? — спрашивает Аракси. — Зачем?
— Потому, что потерял надежду…
— Надежду на что?
— Надежда — это ведь состояние души. Ей не нужны основания, чтобы существовать. Надежда, она как вера — беспричинная, абсолютная, безусловная. Ей не нужны аргументы и доказательства. Она или есть, или ее нет. Как природа. Как звезды. Они, в свою очередь, — состояние материи. Поэтому ужасно, когда надежда тебя покидает. Все равно, что гаснут звезды… Знаешь, на что она похожа?
— Надежда? Нет, не знаю.
— На тыкву.
— На тыкву?
— На большую желтую тыкву.
Она смотрит на меня с подозрением.
— Ты в порядке?
— Нет. Мне сейчас очень плохо. Вспомнил деда. Он ведь тоже потерял надежду. Но, помнится, как-то раз показал мне ослика, который ее никогда не терял. У ослика была надежда, что тыква будет расти и наливаться. Вроде бы осел, а верил… Иначе, какой смысл крутиться вокруг столба?
Она снова тревожно смотрит на меня и спрашивает:
— Ты действительно в порядке?
Я оставляю ее вопрос без ответа. Глаза мои полны слез.
51
Aliyah, или ВосхождениеВ дни Большого Переселения я впервые стал терять следы Гуляки в бесконечном пловдивском трактирном архипелаге с его тайными заливами и возбужденными шумными причалами, где скрещивались и расходились в стороны дальние питейные маршруты. Напрасно я искал его в лабиринте за Большой мечетью, и наверху, у армян, и в маленьких ремесленнических капканчиках-забегаловках у реки. Мне неведомо, может быть, он смог усовершенствовать свою каббалистическую таинственную способность мгновенно исчезать, чтобы появляться в другом месте, или просто-напросто скрывался от всех и не хотел никого видеть. Так же, как не хотел, чтобы видели его.
А хозяева трактиров, да будут они благословенны, продолжали наливать ему в кредит, и вряд ли кто-нибудь из них рассчитывал когда-либо получить свои деньги. Но Гуляка страдал, а настоящий благородный корчмарь, подобно жрецу в храме, не мог остаться безучастным, когда его прихожанин, покрывший такое количество церковных куполов и крыш налоговых и других учреждений, сделавших столько кухонных плит для женщин и цинковых корыт для детей, страдает.
Бабушка Мазаль жила в постоянной тревоге, которую разделяла со всеми родственниками и соседками-еврейками. Она помогала им упаковывать вещи, приготовить «бюрекас» и «кесадас», то есть разную снедь в дальнюю дорогу, поскольку путешествие предстояло длинное: сначала поездом до моря, а оттуда — на пароходе до Хайфы. Некоторые уже уехали, другие, в ожидании следующего рейса, обходили соседские болгарские дома, чтобы попрощаться.
Моя бабушка плакала — когда тайком, когда открыто, но не из-за регулярно исчезающего мужа, так как он рано или поздно снова появлялся. Она испытывала неловкость, граничащую со стыдом, что все уезжают, а мы остаемся. Причем, остаемся из-за упрямства деревянной башки и последнего torpe, тупицы, как она деликатно называла деда.
А дед все глубже и глубже погружался в одиночество, испытывая странную, всецело поглощающую его жалость к людям, — и к тем, кто давно отчалил к родным местам, и к тем, кто сейчас уезжал, и к оставшимся тоже. Это была странная, непонятная, неопределенная жалость, связанная с чем-то, навсегда развеянным ветрами, — с тем, что было, но чего уже никогда не будет. Нередко по утрам мы заставали его лежащим на кухонном топчане в грязной обуви. Иногда его приводили домой добрые люди, тогда он послушно, как ребенок, разрешал бабушке, не перестававшей ворчать, помыть его и раздеть.
Он опустился, перестал работать и искать заказы, впрочем, их некому было ему дать.
Не было уже тихих закатов в трактире напротив старой турецкой бани, не было его друзей и боевых товарищей — самых любимых. Раввин Менаше Леви уехал с первой алией, поспешил совершить восхождение, ибо слово «алия» означает «восхождение». В священную землю Израиля, как известно, нельзя отправиться просто так, как на любую другую землю, — к ее духовным вершинам человек совершает восхождение. Так вот, раввин Менаше, совершив восхождение, уже смотрел издалека и свысока на безбрежные просторы Творения, его взор не достигал пловдивских далей, не говоря уже о квартале Среднее Кладбище с его старой турецкой баней и трактиром напротив.
Неизвестна судьба Ибрагима-ходжи, и был ли он более счастлив на новом месте, или не был, об этом мы никогда не узнаем. Но Гуляка тосковал и по ходже, и по Манушу Алиеву, душе пловдивских трактиров, тоже очень тосковал.
А еще ему ужасно не хватало щели между домами, где была маленькая дверца в солнечный двор — тот, грешный, с поспевающими гранатами. Дверца была наглухо закрыта, и закрыта не там, где ей было место, в каменной ограде, а в душе у Гуляки.
Остался только батюшка Исай, но и он куда-то запропастился, может, он тоже страдал — этого никто не знает. Исаю еще предстоит появиться, но повод будет печальным. Мне же предстояло пережить нечто трагическое, оно уже приближалось, парило в воздухе, как низко летящая ласточка, предвестница плохой погоды.
В какой-то день все и случилось, ибо, как говорил мой дед, любая дальняя дорога, которая имеет начало, имеет и конец.
Был четверг, базарный день, когда Гуляка, погруженный в безрадостные мысли, никого не замечая, пересекал площадь перед старой турецкой баней. В тот момент на него и наехала тяжелая телега, запряженная испуганными, неуправляемыми лошадьми. Именно так это произошло, а потому всякие разговоры о том, что он умер с перепоя, не более чем злобные сплетни.
Потому что я своими глазами видел, как пара лошадей (одна лошадь была каурой, другая — серая в яблоках) с ржанием взвилась на задние ноги и обрушилась на землю, а потом еще и телега с обезумевшим возницей проехалась по деду.
Я увидел дедушку лежащим на турецком крупном булыжнике с разбитой головой и раздавленной грудью.
Все еще не осознавая случившегося, я стоял, прижавшись к стене, когда звякнул звоночек — это был почтальон на своем желтом велосипеде. Он ничего не понял и весело мне прокричал:
— Что слезы льешь, малец! Письмо из Парижа в пути, я его уже заказал!
Деда принесли домой на двери, которую хозяин Пешо снял с петель собственного трактира.
Бабушка Мазаль не бросилась ему на грудь, не закричала, как можно было ожидать, только закрыла ладонями рот, да так и осталась стоять — не отрывая взгляда, оцепеневшая от ужаса, с широко открытыми глазами, из которых медленно, очень медленно стекали крупные слезы.
В проем двери стали заглядывать люди. Это был большой грех, огромный грех, потому что у евреев никто не имеет права созерцать мертвеца, простым смертным не дано смотреть смерти в глаза. Это разрешалось только посвященным синагогальным старцам, чьей обязанностью было обмыть мертвеца, завернуть его в саван, положить в гроб и, забив крышку гроба, предать земле так, чтобы никто не увидел смерть. Они единственные были облечены высокой мистической властью прикасаться к смерти.
Но посвященных не осталось, они уже совершили свое восхождение.
Не было и раввина, который отпел бы мертвеца, потому что даже безбожников, каким был мой Гуляка, следует проводить с уважением, по подобающему еврейскому обряду, согласно традиции и Завету.
И тогда кто-то растолкал собравшуюся толпу, это был батюшка Исай, православный священник нашего квартала!
Он долго стоял, молчаливый и грустный.
Потом по привычке сложил три пальца, чтобы перекреститься, но едва коснувшись лба, вовремя спохватился, что находится в еврейском доме, и опустил руку. Однако я видел и могу в этом поклясться, что губы батюшки Исая, приходского священника церкви Святого Георгия Победоносца, безмолвно произнесли молитву, христианскую молитву, может для евреев и богохульную, но молитву!
Потом он наклонился и положил ладонь на холодный лоб Гуляки, а уста его снова беззвучно промолвили слова, вероятно, отпускающие грехи.
Может быть, впервые с тех пор, как две тысячи лет назад на Голгофе был распят Божий сын Иешуа бен Иосиф, православный священник отпел еврейского безбожника.
Я уверен, что Гуляка, мой любимый дед, известный еще как Эль Борачон, испытывающий светлую любовь ко всем людям, очистился посредством этого отпевания и направился прямиком в рай. Никто еще не доказал, что он существует, а учитель Стойчев расценивал подобные верования как средневековое невежество и опиум для народа, но не может в потустороннем мире не быть чего-нибудь подобного, иначе где же станет играть после своей смерти Мануш Алиев?