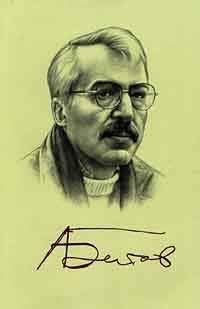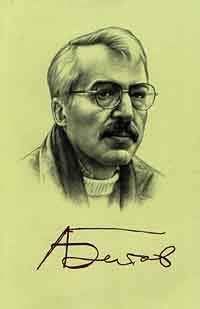Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо сказать, что и бутылку мы прикончили,
— В дьявола я не верю, — вдруг воспротивился я.
— То есть как?! — воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом.
— То есть в Творца, в Христа… — залепетал я, зажатый двумя мудрецами. — Верю как в реальность, что они были… есть… а что дьявол так же есть, как они, — нет.
— Он не верит… — испуганно прошептал Семион своей белой подружке. — Во что же он тогда верит?!
— Слушай его, слушай, — сказал Павел Петрович.
— Да ведь весь воздух кишит!.. — И Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство.
Я отшатнулся, Павел Петрович предательски согласно кивал.
— Чем кишит? — разозлился я.
— Невидимыми существами! — И он заозирался будто в страхе.
— Ив тот свет — не верю! — уперся я.
— То есть как?! — Семион, казалось, лишился дара речи.
Павел Петрович не без интереса на нас поглядывал.
— А так, — сказал я зло.
Так ведь раз есть свет этот, — сказал Семион голосом вдруг мягким и вкрадчивым, — так есть и тот…
— Слушай его, слушай, — с удовольствием поддержал Павел Петрович.
— Как магнит не разрубишь пополам, — сказал Семион.
— Как свет и тьма! — воскликнул Павел Петрович.
— Как жизнь и смерть! — заиграл желваками Семион.
Будто они меня приговорили и сейчас пришла пора моего заклания… Я плохо соображал, мне показалось, что они заговорили на каком-то умершем, пещерном языке. Слова их все висели в воздухе всей речью, как невидимый, прозрачный лист, как такое стекло между ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрачный, тягучий и волокнистый… То крыса, то лицо
Семиона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по нему катились эти плачущие струи, как по стеклу, то лик его вдруг становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке, проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла… Тогда тусклеющие его глазки особенно наливались умом, как безумием, и Семиона снова как не бывало…
— Ты кто? — спрашивал я Павла Петровича.
— Кто он?..
— Ни одного более носорога! Почему с появлением человека не появилось ни одного более вида? И если дрожь омерзения пробирает нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас переживет, то какими глазами сама природа смотрит на нас, какая дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд? На нас?
Я восхищался его умом, я был им переполнен и подавлен, хотя и водка плескалась во мне через край. И вот почему я еще стоял на ногах… Сколько бы он ни возносился, сколько бы он еще ни говорил, ни он, ни я не могли изменить нашего исходного положения: он выступал, а я слушал, и как бы я ни молчал, хотя бы потому, что ничего вровень ему и сказать-то не мог, я — тоже выступал и не мог отступить от роли, как от верховности положения: я выступал оценщиком, конечной инстанцией, ОТК его идей, браковщиком его истин, — так или иначе, я был тем, ради кого он говорил… Что-то с ним когда-то случилось непоправимое, чего-то он не скушал, не переварил, не простил чему-то такому, чему принадлежал без остатка и любил без памяти, ревность пылала во всем… Что это было, чего он не снес? Культура, искусство, сама жизнь? Или сам Бог?
— В Творении не предусмотрены наши блага, блага — это дело наших рук! — голос Павла Петровича звучал отчаянно, словно он уже не догонял мысль, а убегал от нее и она его нагоняла, — Было предусмотрено столько, чтобы мы успели выполнить назначение, — любовь, смерть. Это конец программы. А мы-то полагаем, что наше познание только начинается, когда мы покидаем свою программу… Но ни жадности, ни аппетита, ни чувственности, ни тщеславия не хватит познающему, потому что знания, как и Бога, неизмеримо больше, чем нас. Ни Екклесиасту, ни Фаусту…
Сквозь эти имена проступил Павел Петрович, будто ливень кончился или растворил в себе стекло. Я вдруг увидел, где мы. Тусклый свет, осклизлые, серые стены, помойный цементный пол; в бочке плавал последний огромный огурец, не помещавшийся в чане, высовывающийся любопытствующим тупым концом наподобие крокодильчика. Одно мне стало окончательно ясно: что там мы и находились, где стояли, и речь его не представлялась мне больше никаким преувеличением. С той стороны слоя мы и были, о которой он говорил. С сомнением, что это было когда-то, мог я припомнить пейзаж нашего знакомства. Правда была здесь, а не там; правда, то есть реальность, был вот этот огурец. Безумие — это не то, что мы можем себе вообразить и испугаться, безумие — это когда уже там, а не здесь. Мы были по ту сторону, и нам улыбался Семион, потому что то, что исказило его лицо, было улыбкой. Он протягивал мне кованый ключ от храма.
— Опять забудете, — говорил он ласково.
Потому что мы, оказывается, собирались.
— Ну ты нашабился! — восхищенно сказал Павел Петрович трезвейшему, на мой взгляд, Семиону. — Дал бы дернуть…
С той же устрашающей и подкупающей маской любезности Семион вынул из-за уха непомерно длинную папиросу и протянул Павлу Петровичу.
Я направился к двери, в которую мы вошли, представляя себе то же карабкание в стене и там долгожданный глоток воздуха и неба… оказалось, не туда я пошел. Мы вышли совсем через другую дверь, и никуда не надо было карабкаться — очутились прямо на улице по ту сторону кремля.
— Мы сейчас пойдем в одно место, — сказал Павел Петрович.
— Куда уж… ведь ночь… — Это не я — моя плоть боялась: я весь состоял из водки, она прозрачно дрожала во мне.
— Там нас очень ждут. — Павел Петрович был безапелляционен, однако находился как бы в некотором раздумье, куда идти, направо или налево, и что-то про себя взвешивал и решал.
Мы стояли под единственным фонарем, дорога, изогнувшись вокруг фонаря, уходила вниз, зарываясь в сомкнутые деревья. В раздумье же Павел Петрович достал, теперь из-за своего уха, Семионову папиросу, покрутил и понюхал. Он понюхал — я ощутил, до чего же сладко здесь настоялась ночь: общий запах асфальта, листвы, и травы и тумана, остывая, излучал тепло. Воровато курнув себе в рукав, Павел Петрович передал папиросу мне. Я затянулся, и мы пошли.
То есть это мне так показалось, что мы пошли. Потому что и фонарь почему-то пошел с нами, и дорога повлеклась, как эскалатор… Павел Петрович, конечно, говорил, но я уже не улавливал, то и дело выпадая из его речи в соседнюю темноту улицы, он меня бережно поддерживал под локоток, снова вводя в русло, освещенное все тем же фонарем…
Речь его струилась по этому руслу, как поток, как стихи… Но это и были стихи!
О вечность, вечность! Что найдем мы там,
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа, где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Заброшен в их немые хороводы.
Что станет делать гордый царь природы,
Который, верно, создан всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей.
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)
Ужасно сам похож на обезьяну.
Я был восхищен и подавлен.
— Прекрасные стихи…
Он испепелил меня взглядом и заиграл желваками. Будто я Сезанна помянул…
О суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завладевший,
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить два дня…
Не жрамши… — Павел Петрович осекся и снова ожег меня взглядом, будто это я и был само воплощение…
— Эт-то в-ваши?.. — робко догадался я.
Великая скорбь залила его чело. Он замотал головой от невыносимого страдания.
— Многоэтажный человек… — говорил он. — Он и обезьяна, и питекантроп, и каменный, и бронзовый, и золотой, и язычник, и ранний христианин, и атеист, десятый век соседствует с первым, а первый с двадцатым, он в галстуке и набедренной повязке, с пращой и автоматом, рабовладелец, смерд, буржуа и пролетарий, грек, монгол и русский — все это одновременно, все это сейчас, не говоря уж о том, что он и женщина и мужчина… Мы судим по верхнему этажу, который он надстроил уже в наше время, но мы не знаем, какой из этажей реально заселен в нашем соседе: может, это монгольский сотник пятнадцатого века в "Жигулях", а может, слушатель платоновской академии в джинсах… Мы все из кожи вон уподобляемся друг другу, настаивая как раз на несущественных отличиях как на индивидуальности… и никто нам не подскажет, кто мы. Что ты скажешь про возраст дерева?.. Нет, не надо его пилить, чтобы считать кольца! — перебил он меня. — Что за варварство! Каждая клеточка дерева — разного возраста. Не старше ли нижняя ветвь верхней? А не моложе ли свежий лист нижней ветви старого листа верхней?..