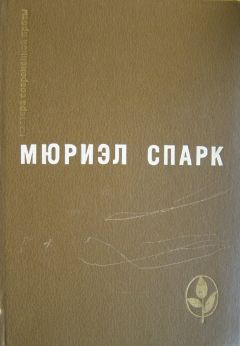В шкафу во всех ящиках хранились досье с записями сэра Квентина о членах «Общества автобиографов». Тут были миссис Уилкс и баронесса Клотильда дю Луаре, мисс Мэйзи Янг, отец Эгберт Дилени, сэр Эрик Финдли и покойная Бернис «Гвардеец» Гилберт, вдова бывшего поверенного в делах в Сан-Сальвадоре сэра Альфреда Гилберта... Эти досье представляли для меня интерес. Была еще папка, помеченная «Берил, миссис Тимс», но она не стоила внимания. Я решила забрать эти досье в виде залога за «Уоррендера Ловита», который — я была абсолютно уверена — Дотти выкрала из моей комнаты по указке сэра Квентина.
Но, ожидая Солли, я заодно бегло проглядела одну из автобиографий — мне было любопытно, что нового в них появилось с тех пор, как, отстранив меня, сэр Квентин взял дело в свои руки. И мне-таки хватило времени заметить, листая страницы досье, что хотя сами воспоминания остались в прежнем объеме, в них вложены листки с заметками, частично отпечатанными на машинке, частично написанными от руки сэром Квентином, — знакомые отрывки, более или менее дословно изъятые из моего «Уоррендера Ловита».
Когда Солли позвонил у дверей, я замкнула шкаф с его тайнами. Эдвина, восседавшая при всех регалиях, бурно обрадовалась Солли. Я усадила его рядом с нею — он все еще не мог сообразить, что к чему, — и объяснила сразу им обоим:
— Я намерена забрать воспоминания «Общества автобиографов» домой, чтобы над ними поработать. Этим биографиям настоятельно необходима литературная правка.
До Солли, похоже, начало доходить. Эдвина же со сверхъестественной проницательностью сообразила такое, что даже мне не пришло в голову; она сказала:
— Великолепно придумано! Это положит конец трагедиям. Несчастная «Гвардеец» Гилберт!
Тут я рассказала Солли, что леди Бернис совершила самоубийство и что в эту самую минуту происходит дознание. Я взяла его сумку и вышла, оставив его в обществе Эдвины.
Я уложила досье в Соллину сумку — захватывающее было переживание. Как легко воровать, подумала я и представила, как сэр Квентин уворовывает мою книгу — не только в материальном смысле, но сами слова, фразы, идей. Основываясь на том немногом, что я успела пробежать глазами, я поняла, что он умудрился украсть даже придуманное мной письмо от Уоррендера Ловита к другому персонажу, Марджери. Сумка получилась тяжелой. Я стащила ее в прихожую и поставила у парадных дверей.
К моему возвращению Солли запалил в гостиной красивую серебряную спиртовку под чайником, в котором Эдвина любила днем заваривать себе чай. Для чаепития было чуть-чуть рановато, но Эдвина, как она выразилась, всегда «томится по чаю». Солли начал угощаться печеньем и пшеничными лепешками с маслом. Эдвина спросила:
— Где досье? Вы сложили их в ту сумку?
Я сказала, что да. Сэру Квентину, сказала я, они, конечно же, не понадобятся сию секунду, и он поймет, что мне и в самом деле удобнее всего поработать над ними дома.
— Забирайте их, душенька, — взвизгнула Эдвина. Потом она заявила: — Вам не вернуть своего романа, если не постараетесь заполучить его обратно.
Тогда и Солли спросил:
— Ты так и не нашла гранки?
— Нет, — сказала я, — книга исчезла до последней страницы.
— Я это знала, — сказала Эдвина. — Так или эдак, а знала. Они думают, я не знаю, что у нас тут происходит, потому что сплю целыми днями. Только я не сплю.
Она стала поименно перечислять издателей, с которыми лично знакома и которые, стоит ей только глазом моргнуть, опубликуют мою книгу. Кое-кого из них, если придерживаться истины, вот уже полвека как не было в живых, но мы обошли этот вопрос и чаевничали в весьма радужном настроении.
Сэр Квентин и миссис Тимс вернулись раньше, чем я рассчитывала, — до ухода Солли.
— Чья это сумка, — спросил, входя в комнату, сэр Квентин, — стоит там в прихожей?
— Моя, — ответил Солли, вставая.
— Барон фон Мендельсон, — сказала я, — заглянул к нам проездом. Позвольте представить: сэр Квентин Оливер — барон фон...
— Ох, умоляю вас, дорогой барон, пожалуйста, сядьте...
И сэр Квентин, придя в свой обычный экстаз по поводу титула, принялся увиваться вокруг небритого Солли, упрашивая его присесть, остаться, побыть еще немного.
Но Солли, твердый и неумолимый, несмотря на свежеобретенный титул, вежливо попрощался со всеми и вышел, прихрамывая и слегка запнувшись в дверях: он не ожидал, что сумка окажется такой тяжелой.
— Самоубийство вследствие помрачения рассудка, — объявил сэр Квентин, возвратившись в гостиную. — Большая доза снотворного в сочетании с пинтой виски. Не забыть проследить, чтобы в свидетельство о смерти вписали что-нибудь поприличнее.
— Скажи им, — завопила Эдвина, — пусть подотрутся этим свидетельством.
— Матушка!
Я ушла через несколько минут и разорилась на такси, чтобы нагнать Солли.
Не следует полагать, будто изложение схемы содержания способно передать стиль и общую атмосферу романа. Мои ссылки на книгу были путаны и бессвязны: я не могла в нескольких словах воспроизвести «Уоррендера Ловита»; да и вообще не в том дело, чтобы избавить или, напротив, не избавлять кого-то от необходимости прочитать саму книгу.
Но мне, безусловно, по силам справиться с главной задачей — рассказать о том, как сэр Квентин Оливер пытался уничтожить роман «Уоррендер Ловит», в то же время присвоив и используя в своих целях существо сотворенной мною легенды.
Помнится, в раннем детстве меня заставляли писать в тетрадке: «Необходимость — мать Изобретательности». Образец великолепного мастерства каллиграфии уже красовался на верху страницы, и нам надлежало для совершенствования почерка переписать эту сентенцию, заполнив ею нижеидущие строчки, что я исправно делала, не отдавая себе отчета в том, что не только улучшаю свое чистописание, но одновременно подсознательно усваиваю урок общественной морали. Были и другие сентенции — «Не все то Золото, что Блестит», «Честность — Лучшая Политика»; еще вспоминаю «Благоразумие — Главное Достоинство Храбрости» {52}. Приходится признать, что сии наставления, над которыми я тогда не думала по своему детскому легкомыслию, но в которых усердно украшала завитушками прописные буквы, оказались, к моему удивлению, совершенно истинными. Им, может быть, недостает великолепия Десяти Заповедей, зато они ближе к существу дела.
И уж поскольку необходимость — мать изобретательности, то неудивительно, что, когда Солли оставил меня с тяжелой сумой бед, забранных на Халлам-стрит, я первым делом обзвонила кое-кого из знакомых, предупредив, что ищу новое место.
Засеяв это поле, я до поры до времени погрузила сумку с биографиями на дно платяного шкафа и занялась планами, как заполучить назад украденную рукопись «Уоррендера Ловита». Меня подмывало позвонить Дотти и открыто обвинить ее в краже. Благоразумие — главное достоинство храбрости; с трудом, но я удержалась от этого шага. Что-то мне подсказывало, что нынешняя Дотти не совсем та, с какой я была в основном на дружеской ноге, хотя время от времени ругалась до остервенения. В ней нечто изменилось — почти наверняка под влиянием сэра Квентина. Я порвала ее биографию, понадеявшись, что она последует моему совету и впредь откажется писать воспоминания для сэра Квентина.
Я предалась размышлениям о грубом произволе, что претерпела со своим романом от Дотти, сэра Квентина, Ревиссона Ланни; попыталась представить себе различные доводы, которые они могли бы привести в свое оправдание: что я сошла с ума, моя книга — бред, она зловредная, клеветническая, нельзя допускать ее публикации. На память мне пришла фраза из «Дневников» Джона Генри Ньюмена: «...тысячеустая молва меня порочит...» Не успела я об этом подумать, как решила прекратить дальнейшие размышления. Пресечь. Отключиться.
Тем временем, как оно часто бывает, стоит лишь мне погрузиться в размышления, план действий понемногу сам собой сложился у меня в голове. Дотти, решила я, едва ли успела настолько поддаться внушениям сэра Квентина, что уничтожила рукопись, но я совсем не собиралась рисковать, напугав ее до такой степени, чтобы она выкроила время заняться этим. Я решила так или иначе выкрасть назад «Уоррендера Ловита». Для чего требовалось заполучить ключи от ее квартиры и обеспечить, чтобы она на несколько часов отлучилась из дому и заведомо не смогла вернуться раньше положенного срока. Больше того, я должна была быть абсолютно уверенной, что Лесли не ворвется в квартиру, пока я ее обшариваю. Меня охватило радостное возбуждение, сродни тому, с каким я пишу книги. Я сознательно зафиксировала эти планы в своей творческой памяти, чтобы превратить их в заключительные главы «Дня поминовения», что и сделала со временем в свойственной мне манере перевоссоздания. Меня часто спрашивают, откуда берутся замыслы моих романов; могу сказать лишь одно — такова моя жизнь, она претворяется в какие-то иные формы художественного вымысла, причем сходство уловить могу только я сама. Обвинение, будто «Уоррендер Ловит» — это клевета на «Общество автобиографов», возмутило меня отчасти еще и потому, что если б я даже придумала своих персонажей не до, а после того, как поступила на службу к сэру Квентину, если бы мне даже и захотелось запечатлеть этих жалких людишек в художественной форме, то их все равно нельзя было б узнать, они бы и сами себя не признали, и даже в этом случае о клевете не могло бы идти речи. Такой уж я человек — художник, а не репортер.