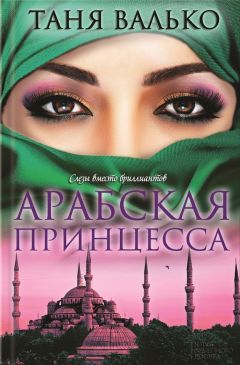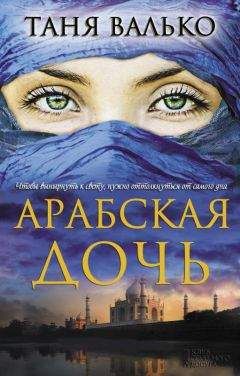— Ну давай, — буркнула я, обращаясь к нему. — Пока солнце еще хорошо греет.
— Приведу Хамуда, он поможет с кроватью. — И говорить он стал лучше. Что же случилось такое, что привело его голову в порядок?
— Не могу не признать, что постоянно что-то делал не так, за злом следовало зло. И никакого наказания. Мой отец только каждый раз все меньше со мной разговаривал, а мать становилась все грустнее. Но я этого не замечал. Мне было все равно. — Я поправляю ему подушки, сегодня хороший день, и он решается на длинный рассказ.
— После моих сумасбродных поступков, которые длились многие месяцы, мне назначили курс социальной реабилитации. Ничего хуже им не могло прийти в голову.
— А что в этом было такого страшного? Я была уверена, что они хотели тебе наилучшего.
— Оно, конечно, так, но из-за этого у меня сейчас СПИД.
— Ищешь виновных, и только. Человек имеет то, что сам для себя приготовит.
— Наверное… — повышает он голос, и я отдаю себе отчет, что для Али это своего рода исповедь. Я должна дать ему шанс.
— И что это было за лечение? — спрашиваю его с сочувствием.
— Да, хотели как лучше… Когда мой дед уходил на пенсию, ему подарили землю под Мисуратой, на востоке, около трехсот пятидесяти километров от столицы. Туда меня и выслали.
— Это для тебя должно было стать настоящей ссылкой.
— О да, один отель, один госпиталь, пара школ и в центре — suk. В Ливии вообще с развлечениями трудно, тем более в такой дыре. А то, что у тебя апартаменты «люкс», ванная, джакузи и спутниковое телевидение, вовсе не означает, что ты будешь счастлив. Почти все время я проводил сам, так как местное общество меня утомляло. Почему я был таким легкомысленным?! Почему был таким безнадежно глупым и самовлюбленным?! — взрывается он, а потом вдруг заливается слезами. — Боже, как бы я хотел повернуть время вспять, как бы я сейчас все мог оценить!
Осторожно дотрагиваюсь до его груди, а он, словно ребенок, выплакивает свою грусть, отчаяние, беды, которые уже не исправить. А я все же думаю, что пока сердце бьется в груди, пока еще жив, всегда есть надежда, свет, который рассеет даже самый глубокий мрак.
— Добрый день, блондинка. — Рамадан все чаще ищет моего общества и каждый раз все смелее приближается ко мне. — Принес вам завтрак. Очень хороший, должен дать вам силы.
— Спасибо, но это не твое дело, в кухне хлопочут женщины, они сами о нас позаботятся.
— Но ведь я могу их подменить, — объясняет мне Рамадан, мимоходом притрагиваясь к моей руке, которую я молниеносно отодвигаю.
Из того, что лежит на подносе, только половину он мог взять в кухне. Я уже здесь так долго, но еще не видела, чтобы кто-то ел покупные магдаленки на завтрак и лакомился заграничным молочным шоколадом.
— Банк ограбил или у тебя много денег? — вместо благодарности я говорю гадости. — А вдруг семейка придет проверить, чем ты тут кормишь своего постояльца?
— Не, не… — смущенно возражает он.
— А мы и так расскажем, ведь нам уже надоели макароны, приготовленные с противным луково-помидорным соусом, которыми нас кормят ежедневно. И сухие старые корки, найденные на свалке, которые вы скармливаете овцам.
— Перестань, блондинка. — Он медленно пятится.
— Расскажешь мне, откуда такая перемена в меню? — продолжаю прижимать Рамадана к стенке.
— Получил работу и думал сделать вам приятное, — выдавливает он из себя со слезами в голосе и убегает.
— Почему ты с ним так обращаешься? — осуждающе спрашивает меня Али, который ни о чем не знает. — Ведь он добрый парень, самый порядочный и симпатичный из всей этой семейки. Разве что немного к тебе подкатывается, но это ведь не грех, — смеется он, забавно приподнимая одну бровь.
Хорошее настроение и удвоенные силы — это единственная заслуга очередной дозы морфина, который семья не жалела для больного.
Антибиотиков и капель тоже достаточно, но Али твердит, что для этого еще не пришло время.
— Поедим во дворе? Прекрасная погода, и еще не так жарко, — подаю я хорошую мысль. — Выставим стол и кресла, что ты на это скажешь?
— Хорошо, пока это возможно, нужно смотреть на мир.
Мы с аппетитом проглотили все до последней крошки, хотя больной очень медленно пережевывал каждый, даже самый маленький кусок. Чтобы проглотить его, ему нужно запивать водой. Язвы покрывают его губы, язык и небо, и я не хочу даже думать о том, что происходит у него внутри.
— Приятно греет. — Али закрывает глаза и с удовольствием подставляет лицо под теплые лучи солнца.
Думаю, не повредит ли это, но сейчас уже, наверное, все равно — пусть у него будет хоть немного приятного.
— Так на чем я остановился? — спрашивает он.
— Ты в Мисурате, — напомнила я.
— Ну да, рассказывал тебе о моем одиночестве. В первое время ко мне был приставлен негр, наверное, из Судана или из Того. Он был в моем полном распоряжении двадцать четыре часа в сутки. Ходил со мной везде, убирал, кормил, массировал плечи. Мой личный раб. Ему было, может, лет двенадцать, не спрашивал. Как-то угораздило меня, и я приказал ему прикоснуться ко мне. У него были тонкие детские пальчики, но шершавые от тяжелой работы.
Сообразив, что сейчас последуют его эротические признания, я решила прервать Али, но любопытство оказалось сильнее, и я не сделала этого.
— Он был невинен. После какого-то времени наши забавы стали более смелыми, и наконец я его изнасиловал. В первый раз он был ошарашен, но постепенно привык и позже даже сам стал приставать, чтобы мы делали это постоянно. Однажды он не появился утром. Дед сообщил мне, что мать парня умерла от странной болезни и он боится заразы, поэтому приказал, чтобы немедленно сделали вскрытие. У нее был СПИД. Потом исследовали всю семью — все были носителями. Дед не был дураком, слышал ведь, что я вытворял, но закрывал на это глаза. Сейчас дело принимало другой оборот. Он, не желая меня компрометировать в маленьком мисурацком обществе, сказал, что нужно срочно ехать к родителям. И он отослал меня с указанием как можно быстрее сделать тест на СПИД. Результат был положительным.
Али умолкает и виновато смотрит на меня. Вокруг были слышны привычные для деревенской жизни звуки. Окружающий нас мир красив, а весна в Ливии — это прекраснейшее время года. В воздухе носится сладкий упоительный аромат цветущих лугов, птицы щебечут, а молодые козочки и овцы радостно блеют. Мы же сидим грустные, уставившись в пространство. Наши проблемы не дают нам радоваться очарованием жизни. Вдруг чувствую внутри сильный прилив, как бы щекотку в середине живота. Странно, разве может в таком истощенном теле что-то расти? Не нравится мне все это, но инстинкт подсказывает, что нужно положить руку на живот и прислушаться к жизни маленького существа, невинного и беззащитного, которое еще не знает, какими ужасными могут быть люди. Ребенок, наверное, появился во мне к добру, и я уже не стала прыгать с высоты, пытаясь выкинуть его из себя. Я его к себе не приглашала, но и он сюда тоже не просился. Не на кого обижаться, нужно с этим смириться.
Али стало еще хуже, а я, не будучи врачом, не имею понятия, что делать.
— Нужно вызвать доктора, ведь так нельзя! — кричу я деду, стараясь убедить его, что Али нуждается в профессиональной помощи. — Положили его там, наверху, в той норе, хотите, чтобы он умер? Нужно попробовать ему помочь!
— Девушка, у тебя доброе сердце, и ты хорошая сиделка, но ему даже в Америке не помогли, хотя его лечили большие доктора. А кто же ему поможет здесь, в пустыне? Ну, скажи ты мне! — Старик похлопывает меня по спине, пытаясь успокоить, и, повесив голову, отходит.
— Пришлю Рамадана, тебе будет легче, — напоследок бросает он через плечо.
Этого мне еще не хватало! Я бегу от Рамадана как от огня, пробую спрятать с каждым днем увеличивающийся живот, а дед дает мне парня в качестве помощника. Чтоб ты сдох!
— Так тебя даже в Штатах лечили? — спрашиваю я Али, неумело вонзая иглу с очередной дозой лекарства, которое уже не помогает.
— Да. А откуда ты знаешь, разве я тебе говорил? — спрашивает Али, едва дыша.
— Дед мне рассказал.
Али обнимает меня за талию, стараясь подняться на подушках. Его вспотевшее лицо густо обсажено язвами, запекшиеся губы почти синие, а сухой язык становится колом во рту. Даю ему пить через трубочку, но это не помогает. Ему уже трудно глотать, Али может просто захлебнуться и умереть. За полгода, что он здесь пребывает, болезнь перешла в последнюю стадию. Вдруг чувствую его худую ладонь на своем животе.
— Хорошо маскируешь, но скоро невозможно будет скрыть это, — говорит он с грустью. — Кто тебе подарил этот сувенир? Муж во время нежного прощания?
— Шутишь. — Я отскочила от него, как ошпаренная, и стала в отдалении, поправляя складки ткани на уже выпуклом животе. — Я здесь более полутора лет, — сообщила я ему.